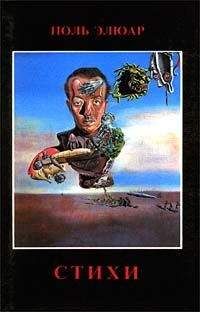Когда Элюара настигли первые порывы «дымом окайм ленного, пеплом увенчанного» урагана, что «стек в гробницы городов, в клочья разорвал белье любви и, дождем про несшись по всем дорогам крови, стер чертеж, который вел живых»; когда затем на родной земле он встретил фашистов – тех самых безымянных «их», что недавно бесчинство вали в Мадриде, спалили Гернику, – и воочию убедился:
Они в одеждах смерти
И нет для них удела хуже чем свобода –
все эти вестники коричневого апокалипсиса потрясли его, но не испугали, причинили безмерное страдание, но не повергли в безнадежность.
Уже в «Открытой книге», где, по словам Элюара, «бледная предвоенная пора, серый сумрак войны сошлись в схватке с вечными чудесами» жизни, он в равной мере сохранил в поле своего зрения «красоту и ужас, желание и возмущение». Почти безмятежные поначалу страницы «Открытой книги» к концу все сильнее пропитывала едкая гарь военного пожара, горечь поражения и рабства. Но все же и тогда под пером Элюара рождалась лирика трагическая, а не лирика смятения. В самый момент краха, когда французы были оглушены стремительным разгромом, а затем жутким исходом на запад и юг беженцев вперемешку с отбившимися от своих солдатами, Элюар различал, как «в серой, бесчувственной, притихшей стране… перекликались немые, переглядывались слепые, друг друга слушали глухие». Он предрекал: в замерших «пристыженных владениях, где и у слез одни лишь грязные зеркала… солнце скоро стряхнет с себя пепел». Эта ударная заключительная фраза элюаровских версетов «В воскресенье после полудня» («Открытая книга, II») подобна внезапному солнечному лучу, рассекающему мутную пелену тумана: она внушает, что не все потеряно, вселяет надежду. Уже самые первые прямые отклики Элюара на катастрофу 1940 года – не плач отчаявшегося, а песнь побежденного и все же восстающего против своей доли. В полном смысле – лирика Сопротивления.
Даже для французской литературы, всегда обладавшей обостренной гражданской чуткостью, поэзия Сопротивления – явление поразительное. Ничего подобного ее история не знала по крайней мере со времен революции XVIII столетия и освободительных битв демократии в первой половине XIX в., когда во Франции едва ли не на каждой лире была своя туго натянутая «медная струна». Однако после Парижской коммуны лирическая речь, оттачиваясь как инструмент личностной исповеди или метафизического раздумья о вечных истинах любви и смерти, очень редко и лишь в последнюю очередь служила оружием прямого вмешательства в граждански-историческую жизнь.
«У нас был безупречный язык – так, по крайней мере, казалось нам в ту пору, пока все это не произошло, – вспоминал поэт и эссеист Жан Марсенак летом 1964 г. на вечере в память писателей, павших от рук гитлеровцев. – Мы говорили “добрый день”, “спокойной ночи”, “приятного аппетита”, и сказанное обретало столь прозрачный смысл, что угроза исчезала перед ясностью. Свет был нежным, сон легким, и мы безмятежно преломляли свой белый хлеб… Во Франции стоял ясный день, мрак будто и не собирался переползти через ее границы.
Однажды утром солнце не взошло, ночь с широко открытыми глазами уселась у нас на груди и хлеб сделался черным. Но какое-то время, подобно слепцам, еще не вполне уверенным в своей слепоте, мы продолжали говорить так, как будто ничего не случилось. “День добрый”, – приветствовали мы человека, который шел на смерть; “спокойной ночи”, – напутствовали того, чей сон тревожили страхи; “приятного аппетита”, – желали тому, у кого глаза ввалились от голода. А прах и нелепица жизни с каждым днем все сильнее глушили древний голос жизни. И впереди нас не ждало ни чего, кроме молчания или лжи.
И тогда появились поэты. Нежно, сдерживая ярость и отчаяние, взяли они руку Франции и приложили к своим губам, чтобы эта немая вновь научилась говорить. Они при пали к самому источнику речи, чтобы там, в глубинах омраченных сердец и потрясенных умов, почерпнуть слова самые важные, те несколько слов, без которых все прочие слова теряют смысл. И правда была спасена песнью.
И дерево зазеленело, едва было произнесено слово “весна”. Города и веси, вновь заселенные людьми, ответили на клич родины. К тому, кто звал брата, каждый незнакомец обратил лицо брата.
Наконец обозначенный своим именем, враг стал врагом. И все заняло свои места и обрело свое истинное значение, когда было сказано: “Свобода”. Франция опять заговорила. Она заговорила на заново воссозданном языке, которому исходными понятиями послужили нищета и позор, страх и гнев, безмерное страдание, безграничное мужество…
О поэзия тех давних лет, о вечная поэзия – ты, что учишь человека наречию Человека!»[69]
«Слово» Марсенака в честь подвига его собратьев по перу и подполью отметило самую суть дела: прорыв к теку щей исторической действительности, которым французская поэзия обязана Сопротивлению. Именно это позволило ей выйти за рамки собственно культурного ряда, прямо вторг нуться в ход событий, строить душу и дух народа. И она достойно выполнила обращенный к ней нелегкий гражданский заказ. В те годы сочинение стихов было делом не менее ответственным, чем изготовление взрывчатки, выпуск книги связан порой с не меньшими трудностями и риском, чем подготовка крушения на железной дороге. Стихи печатали в запрещен ных газетах, тайком пускали по рукам, расклеивали на сте нах домов, перевозили наравне с оружием, в листовках сбрасывали с самолетов над партизанскими районами, пере давали по радио из Москвы, Лондона, Алжира. Лирики, не так давно печатавшие свои произведения чуть ли не на соб ственные средства и распространявшие нумерованные экземпляры по знакомым, обрели миллионную аудиторию. Они дрались в отрядах макизаров, они работали в подполье. В мартирологе Сопротивления имена литераторов соседствуют с именами военных командиров. Строки стреляли, и за них расстреливали.
Опубликовав «На нижних склонах», Элюар, как и Ара гон (после десяти лет разрыва они вновь стали товарищами по общему делу), выступил одним из зачинателей поэтиче ского Сопротивления. Эта книжечка еще получила разрешение цензуры: пока что язык Элюара – язык намеков, хотя и весьма прозрачных. Метафорически окольная речь визионера граничит здесь с эзоповой речью свидетеля, сполна разде лившего трагедию соотечественников.
Угроза под небом багровым
Исходила от челюстей
От щупальцев от чешуи
От скользких тяжелых цепей
Развеяли по ветру жизнь
Щедрой рукою чтоб смерть
Дань собирала свою
Без счета и без числа
………………………………
И все же под небом багровым
Над яростной жаждой крови
Над голодом заунывным
Пещера сомкнула края
Заткнула живая земля
Жадные глотки могил
И дети уже не боялись
Материнских земных глубин
Глупость низость и бред
Уступили место свое
Людям братьям людей
Не дерущимся против жизни
Всего несколько лаконичных строф стихотворения «Незапятнанный огонь» дают как бы метафорическую кардиограмму работы большого сердца Франции в год после разгрома. Жан Полан в предисловии к «На нижних склонах» тонко подметил, что Элюар приостанавливал многолетнее сужение границ французской лирики, в межвоенный период замыкав шейся в изолированном сознании и даже подсознании одиночки. Он «не страшится ни рассказа, ни притчи, ни загадки или пословицы» – иными словами, возвращает лирике способность быть прямым откликом на происходящие события, равно как и выражать накопленную народом мудрость. Образы из арсенала ясновидческой космогонии Элюара обретают гражданский подтекст (скажем: «трава при поднимает снег, словно камень на могиле», отсылает теперь не столько к круговороту в природе, сколько к возникающему патриотическому движению). А заключительная ударная строка, как правило, у Элюара намеренно отделенная от предыдущих и подводящая итоговую черту под всем сказанным, в своей чеканной афористичности заключает завет, призыв и заповедь, продолжая долго стучать в мозгу и после того, как книга захлопнута (как строка о несокрушимости «людей – братьев людей» в «Незапятнанном огне»).
«Потемки – это привычка обходиться без света», – на помнил в 1942 г. Элюар в подборке изречений «Поэзия преднамеренная и поэзия непроизвольная» афоризм одного из испанских схоластов-алхимиков. «На нижних склонах» – лирическое свидетельство о французах, не поддавшихся этой роковой привычке. Сразу после поражения их швырнуло на самый нижний из нижних склонов, «столь же низко, как молчание мертвеца, зарытого в землю»; «одни потемки в го лове», вокруг глухое безлюдье, похожее на «осеннее болото, затянутое тусклым стыдом», «яд… выплевывает в людей сгустки ночи». Но уже следующее за этой кошмарной пре людией стихотворение озаглавлено «Первая ступенька. Голос другого»: оглохший было от удара человек, заслышав издалека зов себе подобного, тем самым уже сделал шаг прочь из безмолвия «зеленеющей бездны». Упрямо, до боли сжавши зубы, начал он свой трудный подъем, и все его помыслы отныне сосредоточены на одном – сторицей воздать виновникам общих бед: «О ты, родич мой, мое терпеливое терпение… готовь для мщения постель, где заново рожусь» («Терпение»). Когда же он совсем рядом различил тяжелое дыхание соседа, с таким же упорством преодолевающего кручу, и всем своим существом постиг неистребимость человеческой тяги к свету, то даже в «уродливейшую из весен на зем ле» окончательно утвердился в давнишней своей догадке: «Из всех способов жить доверие – самый лучший». Доверие к жизнестойкости своих соотечественников «с красивыми лицами, добрыми лицами», просветленными уверенностью в том, что час расплаты для врагов недалек («Скоро»). Доброта сегодняшних побежденных, которым завтра пред стоит похоронить пришельцев-хозяев, – не коленопреклоненное смирение или всепрощение. Нет, это сражающееся добро, и мощь его в том, что оно сплачивает, помогает преодолеть раздробленность, навязанную разгромом.