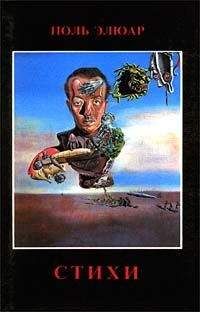Сейчас, когда отодвинулись в прошлое многие из имен, дат и событий, послуживших толчком для Элюара, немало тогдашних его произведений, которые частично вошли в книги «Политические стихи» (1948), «Урок морали» (1950), «Посвящения» (1950), а частично остались разбросанными в печати и включены посмертно в двухтомное собрание его со чинений (1968)[80], кажутся всецело достоянием истории или общественной биографии Элюара. Есть стихи как солдаты, не дожившие до победы, как рабочие, вложившие свой труд в здание, которому стоять века: они гибнут, оставляя по себе добрую память и дело, которому честно послужили. Их долговечность – не в вечной жизни их самих, а в жизни того, что ими защищено, посеяно, взращено в душах людских. Ведь и Маяковский прекрасно понимал это, когда предписывал:
…Умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши!
И все же судьбу безымянных рядовых, не стяжавших личной славы, – хотя историки, восстанавливая в деталях картину французской жизни и культуры первого послевоенного десятилетия, не преминут остановиться на их вкладе в дела эпохи, – разделило далеко не все, что писалось Элюаром по горячим следам событий. Даже если среди созданного им тогда нет, пожалуй, вещей, равных «Свободе». Сам Элюар незадолго до смерти постарался извлечь из своей работы политического лирика уроки, ставящие под сомнение отнюдь не саму плодотворность приобщения поэзии к жгучим заботам дня, но лишь газетно поверхностное скольжение по ним, сочинительство «на случай»: «Надо проникнуться той мыслью, что, по словам Гёте, “всякое стихотворение связано с обстоятельствами”…– настаивал Элюар в январе 1952 г. – Но надо также проникнуться мыслью, что, для того что бы стихотворение, связанное с обстоятельствами, от частного возвысилось до всеобщего и приобрело ценность, прочность, долговечность, необходимо совпадение обстоятельств с самым простейшим желанием поэта, с его сердцем и умом, с его разумом… Внешнее обстоятельство должно быть в согласии с обстоятельством внутренним, как если бы поэт сам его создал. Тогда оно становится столь же подлинным, как чувство любви, как цветок, рожденный весной, как радость строить, чтобы не погибнуть».
Мудрость этого правила, побуждавшего Элюара резко отграничивать «стихи на заказ» и стихи, продиктованные «социальным заказом» в понимании Маяковского[81], подтверждена не только «Свободой» или «Габриелем Пери», но и рядом бесспорных удач его послевоенной лирики. Они ждали Элюара как раз тогда, когда писавшееся по горячим следам событий позволяло подхватить, углубить, заново осмыслить то, что издавна было ему близко и дорого. У позднего Элюара многое настолько напоминает Элюара совсем раннего, времен «Долга и тревоги», что это даже дало повод кое-кому из писавших о нем попросту пренебрегать всем его многолетним развитием: вот, мол, пробы пера юноши, а вот почти совпадающие с ними достижения мастера, убеленного сединами. И в самом деле, скажем, элюаровские миниатюры – подписи к рисункам Пикассо «Лик всеобщего мира» (1951) очень схожи с давними «Стихами для мирного време ни» (1918):
Плодоносное пламя семян и ладоней и слов
В пламени радости каждому сердцу тепло.
Лицо свое солнцем омыв
Жажду жить человек обретает
Жажду новую жизнь созидать
Жажду любви.
Здесь те же думы – о счастье, труде, о добрых всходах и нежном рукопожатии; те же ключевые образы – пламя, лицо, улыбка, греза, посев, всходы; та же прозрачная чистота и афористичность речи. И все же между 1918‑м и 1951‑м годами – немалый путь, на котором, по словам Элюара, «невинность набрала силы, так долго ей недостававшие». Не пройдя его, он вряд ли мог бы теперь сказать:
Счастье мое это наше счастье
Солнце мое это наше солнце
Мы жизнь по-братски поделим
Пространство и время для всех.
Птица в полете своим доверяется крыльям
Мы своей доверяем руке
Протянутой к брату.
Робкое «я» становится преисполненным гордости «мы», тяга к братству – обретенным братством, надежда – твердой верой, что «каждый будет победителем» и «мы вместе изготовим наши дни по мерке наших грез». Это не простое возвращение на круги своя, но и не измена себе прежнему – это именно становление.
О сути этих перемен споры вспыхнули еще у свежей могилы Элюара. С тех пор укоренилось и стало довольно устойчивым предрассудком мнение, будто Элюар пятидесяти летний чуть ли не полное отвержение Элюара тридцатилетнего. И те, для кого «настоящий» Элюар начинается «Ноябрем 1936» или «Победой Герники», и те, для кого он пример но в ту же пору «кончается», сходятся в одном. В угоду своим вкусам они с равным усердием и одинаковой предвзятостью разрубают на две половинки биографию лирика, который, конечно, был неустанно в поиске, но чья жизнь и труд – по-своему редкий случай единства, органичности роста, его непрерывности и вместе с тем постоянства. Сам Элюар, предвидя кривотолки и тех и других, заранее ответил на них однажды, когда осенью 1949 г. французское радио предложило ему сделать ряд передач, затем составивших книгу «Тропинки и дороги поэзии». Пять этих раздумий вслух о назначении стихотворного слова примечательны, в частности, тем, что пространные выдержки из статей Элюара пятнадцатилетней давности и даже более ранних переплетаются здесь со страстной защитой права и долга поэта «быть вовлеченным в служение делу, ибо все люди, уважающие себя, во влечены в служение делу – вместе со своими вчерашними братьями, с братьями сегодняшними, братьями завтрашни ми». Составляя так свои передачи, Элюар подсказывал, что в его исканиях надо суметь увидеть не чудесную метаморфозу, а возмужание, когда многое пересматривается и даже отвергается, еще больше набирается заново, но нет и не может быть перерождения личности. Оборотни часты среди бездарностей, Элюар слишком для этого самобытен. Из его послевоенной лирики жизнестойко прежде всего то, что уходило корнями в здоровую почву годами взращенной, вполне окрепшей мысли, что венчало его не вдруг возникший и отнюдь не заемный гуманизм.
Смолоду счастье в глазах Элюара было неподдельным в той мере, в какой оно счастье разожженного огня и дружеского рукопожатия, в какой оно – сотворение. Политические стихи последних лет несут в себе все тот же духовный заряд. Они обретают окрыленность как раз тогда, когда события, послужившие для них толчком, обнаруживают в их рядовых участниках хранителей Прометеева пламени. Такими – скромными и богоравными – предстают у Элюара его товарищи по делу в разных уголках земли: французские горняки и докеры, заключенные франкистских тюрем, «во тьме вскармливающие огонь, в котором заря, свежесть, утренние росы, победы и радость победы», и партизаны Греции, добывающие в сражениях «свободу, подобную морю и солнцу, и хлеб, подобный богу, хлеб, роднящий людей». Таким предстает один из самых вдохновенных элюаровских огненосцев, вождь бразильских революционеров Луис Карлос Престес – уитменовская по своей мощи фигура повстанца и сеятеля, раз машисто шагающего по земле («Посвящения»).
В гражданской лирике позднего Элюара происходит встреча давнишней мечты с самой заурядной повседневно стью, в которой «обыденные чудеса» очевидны, зримы, осязаемы. Свидетелем их можно стать не только на дальних континентах. Они совсем рядом, в собственном, ничем особо не примечательном квартале, где «мужество жить, несмотря на нищету, против нищеты, сверкает на грязной мостовой, рождая чудеса». У Элюара и обитатели тихих уголков Парижа «знают, что улицы их – не тупики, и они не напрасно протягивают руку, чтобы соединиться с себе подобными. В моем прекрасном квартале сопротивление – это любовь. Женщина, ребенок – сокровища. А судьба – побирушка, чьи лохмотья, рухлядь и хищную глупость однажды, в ясный день, сожгут дотла» («В моем прекрасном квартале»). Открыть красоту и добро в будничном вовсе не значит взглянуть на окружающее сквозь розовые стекла. Напротив, Элюар зорче, чем когда бы то ни было, подмечает все тяготы, остающиеся пока уделом тех, кто в поте лица добывает свой хлеб. Смелее включает Элюар в поле своего зрения и всю неприглядную изнанку жизни, ведь «настоящая поэзия… знает, что есть пустыни песчаные и пустыни грязи, натертые полы, растрепанные прически, шершавые руки, смердящие жертвы, жалкие герои, великолепные идиоты, собаки всех пород, метлы, цветы в траве, цветы на могилах. Потому что поэзия – это жизнь». И в ряде случаев, как бы намеренно заземляя свою лирическую вселенную, Элюар теперь снова вводит в нее самый неказистый быт, когда-то очень заметный в «Долге и тревоге», а потом почти совсем исчезнувший. Тусклая городская окраина в стихотворении «Сего дня» («Политические стихи») не может не напомнить бодлеровский Париж: