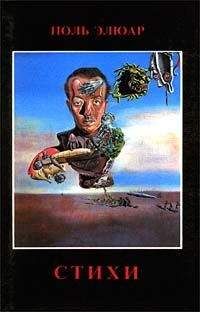Однако то, что для французских певцов городской цивилизации в XIX в., в том числе и для Бодлера, было печальным, но неистребимым убожеством, где бьется и гибнет белоснежная чистота, где гордые лебединые крылья за брызганы жижей зловонных луж, – по Элюару, вовсе не неизбывно. И он не только замечает в глазах обитателей этих сырых и темных домов огоньки душевной несломленности, он не сомневается, что всем на свете ветхим развалюхам не миновать рано или поздно быть стертыми с лица земли, уступив место добротным просторным постройкам.
Никогда раньше, даже в самые светлые минуты, лирика Элюара не проникалась столь твердой верой в преодолимость преград, заслоняющих доступ к простой и огромной радости – радости добиваться счастья для всех. В горе нет ничего безысходного, человек – не былинка, подвластная слепому року, но «строитель света», своим каждодневным трудом покоряющий недобрую судьбу:
Надо верить, верить и знать,
Что в твоей, человечьей, власти
Быть свободным и лучше стать,
Чем сулила судьба или счастье.
Впрочем, прометеевский пафос позднего Элюара даже не столько в подобных прямых заявлениях – они не так уж часты, сколько в самом строе его лирики, во всей ее словесно-стиховой ткани. Заново возникшие задачи требуют подобающего оснащения. Элюар не может вполне довольствоваться прежним письмом, приспособленным для намекающей под сказки, для остраненной передачи ландшафта одной мятущейся и грезящей души в мгновенных озарениях, но не очень пригодным в качестве инструмента познания и возможной перестройки действительной жизни.
Образы у позднего Элюара сохраняют, а порой и увеличивают свою взрывную силу. Только он теперь не столько грезящий наяву волшебник, сколько пытливый изыскатель: под корой застывшего в мертвенном покое он обнаруживает скрытое от невооруженных глаз движение, просвечивает и делает доступным всем то, что открылось его пристальному взгляду. Творец призван прежде всего «разрушать тайны», даже если это собственные радостные миражи застилают ему взор. Он «не баюкает, а пробуждает», им владеет «воля ясно видеть», постичь и запечатлеть жизнь в ее истинности, добро и зло такими, каковы они на самом деле. «И я научился теперь петь правду», – гордо заверяет сам Элюар.
Под занавес «Непрерывной поэзии, I» развертывается пророческое видение, схожее с теми, что изобиловали у Элюара и прежде. Здесь метафоры, создающие всю картину, – тоже богатырская игра раскованного вымысла. И вместе с тем они – предсказание, опирающееся на то, что Элюар, по его убеждению, уже знает о всемогуществе человеческих рук и ума:
Стремительно наступает
Завоеванная свобода
Свобода майский лист
Раскаленный добела
И огонь в облаках
И огонь в птицах
И огонь в погребах
И люди снаружи
И люди повсюду
Заполнившие все пространство
Сокрушающие стены
Делящие между собой хлеб
Снимающие одежды с солнца
Целующие друг друга в лоб
Одевающие бури
Целующие друг другу руки
Заставляющие зацвести во плоти
Время и пространство
Взламывают запоры
И наполняют воздухом груди
Зрачки расширяются
Открываются тайники
Бедность смеется до слез
Над своими смешными печалями
В полночь зреют плоды
В полдень луна созревает.
Ошеломляющие прозрения этого пророчества (люди, снимающие одежды с солнца, чтобы ничто не загораживало от них тепло и свет, и обуздывающие стихии, набрасывая на них платье; природа, «прирученная» настолько, что и ночью наливаются плоды, а днем восходит полный месяц и т. п.) – не озарения наугад. Суть и вложенная в них сверхзадача не в том, чтобы пренебречь физической природой вещей, как это бывало у Элюара прежде, а в том, чтобы поставить себе на службу материально-природное бытие, учитывая его собственный скрытый закон, сделать послушным, «очеловеченным»[82]. Пространство и время – а вместе с ними движение, причинность – возвращаются в лирическую вселенную Элю ара[83]. Но уже не как разные обличья изначально враждебной, все и вся сковывающей судьбы, а как принципы саморазвития жизни, как судьба в ее становлении, которое работает на человека и которым он в силах овладеть[84].
Когда-то сам Элюар видел в часовой стрелке заклятого недруга, и все в поле его зрения тяготело либо к полюсу застывшего мгновения, либо к полюсу столь же недвижимой вечности. Образ в ту пору складывался чаще всего как статичное сопоставление, а если и предполагал известное движение, то лишь между этими двумя полюсами покоя. С годами элюаровское образотворчество все отчетливее обнаруживает ту давнюю его особенность, которую подчеркнул философ Гастон Башляр в определении, ставшем почти крылатым: «Да, у Элюара образы хорошо прорастают, дают хорошие всходы. У Элюара образы правы». Ткань этой лирики и в самом деле напоминает растительное царство, где все пробуждается от зимней спячки, набухает свежими соками, цветет и обещает плоды, чтобы даже в смерти не исчезнуть вовсе, но, как павшее в землю зерно, с приходом весны дать крепкие ростки и опять включиться в круговорот жизни[85]. Недаром Элюару, наряду с прометеевским мифом, очень близка легенда о чудесной птице Феникс, сгоравшей на костре и всякий раз возрождавшейся из пепла еще более юной и прекрасной. Оттого-то его исповедь и не нуждается в подкреплении оптимистической дидактикой: сами видения просыпающейся, встающей из праха жизни, сами рождающиеся отсюда ассоциации сообщают и нам энергию своего роста и преображения, заражают нас и заряжают наше упование. За ними правота зеленого побега, пробившегося из-под земли и потянувшегося навстречу солнцу.
Отклики на граждански злободневные «обстоятельства» входили в лирику Элюара, отнюдь не оттесняя «долгого любовного раздумья», а, напротив, раздвигая его границы. «Лицом к лицу с немцами» и позже, всецело разделяя «тревоги и надежды людей нашего времени», он продолжал говорить о ласке и телесной близости, о том, что «признание “я тебя люблю” – самый гордый клич человека, священный призыв к счастью», «вопреки навязанным нам страданиям, вопреки ложному стыду, всякому принуждению, всякому проклятию, презрению скотов, хуле моралистов… вопреки небытию, вопреки смерти». «Семь поэм о любви на войне» (1943), «Постель Стол» (1944), «Белокрылые белошвейки» (1945), «Жаркая жажда жить» (1946), «Лишнее время» (1947), «Памятное тело» (1948), «Леда» (1949), «Феникс» (1951) – из года в год элюаровская Книга Любви пополнялась вплоть до предсмертного лирического завещания «Замок бедняков», где Элюар успел еще раз произнести нежное «спасибо» женщине, вместе с которой они «сказали “добрый день” утру, всей прошлой и грядущей жизни, нашей общей жизни».
Гитлеровское нашествие, когда Франция оказалась добычей разрухи и горя, поначалу заставило Элюара, как и раньше, в 1918 г., резко отгородить свой домашний очаг от всего, что окрест, очертить вокруг прибежища любви магический круг, сквозь который не проникнуть смертоносной непогоде:
Ну что поделаешь мы жили как в могиле
Ну что поделаешь нас немцы сторожили
Ну что поделаешь в тоске бульвары стыли
Ну что поделаешь сердца от горя ныли
Ну что поделаешь нас голодом морили
Ну что поделаешь мы безоружны были
Ну что поделаешь ночные тени плыли
Ну что поделаешь друг друга мы любили.
Укромное жилище, где за шторами светомаскировки теплится жизнь, словно бросает вызов громадам ночных домов, часовым, оцеплению – всем окутанным холодом и мглой просторам страны, на которых распоряжается смерть. Всего несколько шагов вдоль и поперек, тонкие стенки и крыша – вся защита, стол и кровать – все достояние, еще принадлежащее хозяевам. И тем не менее этот крохотный оплот тишины и добра стойко сопротивляется вражеской осаде: «Вечер крылья сложил над Парижем в отчаянии, наша лампа поддерживает ночь, как узник – свободу». И чем неистовей этот натиск извне, тем дерзновеннее звучит исполненный нежности напев, славящий женщину, с которой Элюар познал «юность любви, разум любви, мудрость любви и бессмертие».
Книга «Постель Стол», создававшаяся в основном зимой 1943–1944 гг., когда Элюар вместе с Нуш скрывался в горной клинике для душевнобольных, поражает своей безоблачностью – будто свинцовые тучи вовсе не обложили со всех сторон французский горизонт. В этих стихах, кажется, нет и следов военной беды, но как раз своей летней просветленностью они и принадлежат той суровой зиме. Не как отчаянно-судорожная попытка заговорить боль и хоть на минуту забыться, а как свидетельство того, что потребность в счастье и способность человека быть счастливым неистребимы, что против них бессильны расправы и бесчинства захватчиков. Коль скоро любовь уберегает от отчаяния, оставаясь неколебимой и среди катастрофы, значит, наша – на первый взгляд такая хрупкая – тяга к радости крепче самой стали, значит, дух наш наделен безграничным запасом жизнестойкости. И «в годину эту мы сохраним сопротивление детства, обнаженность листвы, обнаженность твоих светлых глаз». Потому что нет брони надежнее, чем эти простые и вроде бы совсем беззащитные вещи. Любовь на войне пробуждает и укрепляет мужество уже одним тем, что она есть, не завяла и не выветрилась, что ее не сломал разгул человеконенавистничества. И в этом смысле она – урок, помогающий выстоять не только самим любящим, но и многим другим, всем, с кем они делят утраты, невзгоды, подвиг. Элюар с полным правом полагает: «О ближний мой, мое раздумье о любви – и для тебя, и для меня». Близость двоих, впрочем, не просто духовная опора среди бед, но и побуждение к действию. По мере того как во Франции нарастал отпор врагу, Элюар все сильнее проникался иным, чрезвычайно требовательным взглядом на любовь: