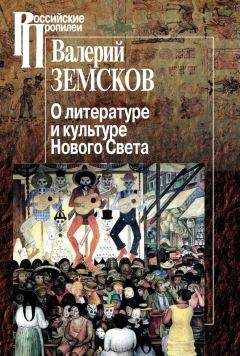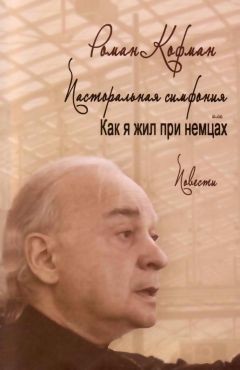Это мир с особыми ценностями – женщина-богиня превращается не в земную женщину, а в богиню – в мифологическую фавнессу. Таков исход конфликта с действительностью, с калибановым царством вульгарности, утилитаризма и с освящающей его христианской культурной традицией. Метаморфоза свершилась, вместо реальности – «лазурная страна». Калибанов мир, материальный, догматически-серьезный, сменился праздничным, невесомым миром утопии, миром новой – языческой сакральности.
Как и всякий литургический акт, священнослужение Дарио – это торжественный и праздничный акт приобщения к трансцендентным силам. Но и профанация – также праздничный и мировоззренческий акт, но не торжественный, а травестийно-игровой, лишающий торжественность догматичности. Таким образом, основа поэтики Дарио – амбивалентная метафора серьезно-несерьезного, игрового, карнавального празднества.
Карнавальная эстетика важна для Дарио, о чем свидетельствует присутствие карнавальной темы («Карнавальная песня») в «Языческих псалмах» и неоднократное обращение поэта к теме карнавала в очерках разных лет: «Психология карнавала» (1893), «Прелюдия карнавала» (1897), «После карнавала» (тот же период), «Карнавал» (после 1896 г.), «Апология смеха» (90-е годы). К реальной карнавальной культуре, которую поэт, выросший в никарагуанской провинции, хорошо знал (см. его статью «Фольклор Центральной Америки. Народные представления и танцы Никарагуа»), его отношение не апологетическое, а к городскому карнавалу – настороженное. В описании аргентинского карнавала в Буэнос-Айресе в очерке «Психология карнавала» маска выявляет лишь безобразие действительности. А вот отношение к карнавалу в искусстве, в истории культуры у него иное. В «Апологии смеха» он вспомнил разные виды карнавализованной литературы от Античности до современности и писал: «Смех освобождает мир от мрака», «смех – это спасение, копье и герб», спасение «отравленной поэзии реализма»[269]. Карнавал для него – одно из наиболее истинных самовыражений «латинского наследия», т. е. культурной родины его и модернистов вообще. В очерке «После карнавала», написанном под звуки заканчивающегося карнавала Буэнос-Айреса (неэстетизированный карнавал чужд ему, но от него он получает импульсы для карнавального модуса мышления), Дарио путешествует по образам «латинского» карнавала – французского, итальянского, испанского, апологетически относясь к этой традиции. Сам очерк – комментарий к «Карнавальной песне» – маске маски, ибо это парафраз стихов француза Теодора де Банвиля о карнавале, эпиграф из них предваряет стихи Дарио.
Комментируя «Карнавальную песнь», Дарио раскрыл механизмы модернистской поэтики парафраза, воплощающиеся в разных модусах травестийного мышления, от глубоко серьезной «маскарадной» травестии у Х. Марти или у X. дель Касаля до травестии карнавально-праздничной (от М. Гутьерреса Нахеры до X. Эрреры-и-Рейсига). Под звуки карнавала Муза поэта ищет себе в гардеробе маску среди различных образов культур – классической, декадентской, символистской, китайской, античной, современной. Эмблематический сюжет и образ раскрывают основу эстетики модернизма: поиск своей сущности среди иных культурных миров. Но Муза отвергает все маски, в том числе и галантно-игровую маску Банвиля. «Моя маска, – писал Дарио, – это лик Музы», т. е. его Муза равна самой себе, она надевает «чудесную маску Зари»[270], чей образ относится к ключевой топике модернизма (рассвет, восход и т. д.) и означает рождение истинного собственного облика. Обретя маску Зари на живом карнавале Буэнос-Айреса, на знаменитой улице Флорида, Муза из карнавальных странствий по чужим мирам вернулась к жизненному истоку.
Импульсы от реального латиноамериканского карнавала преобразованы у Дарио в ином культурном пространстве – ведь он парафразировал французского поэта Банвиля, но связанная с этим мировоззренческая серьезность кроется в глубине искрящегося праздничного мира поэзии. Праздник, его сюжеты и формы (маскарад, карнавал, ряженье в маски, галантный прием, куртуазная игра, различные виды интимных любовных празднеств), все его атрибуты (игровые действа, смех, музыка, звучание оркестра, выступление буффона, возлияние вина) пронизаны у Дарио токами подлинно карнавального мировосприятия. Приметы этого модуса художественного мышления обозначились в «Лазури», но там еще не возник основной сюжет поисков Дарио на карнавале мировых культур. Богемная эротика «Лазури» не претендовала на глубокое мировоззренческое значение. Иное дело в «Языческих псалмах», где обнажена основная нить: поиск поэтом своего облика среди масок иных культурных миров. Почти все стихотворения «Языческих псалмов» – о карнавально-эротических празднествах-соитиях в разных историко-культурных масках, редуцирующихся в единый смысл. Поиск своего культурного облика связан с самоопределением через сферу Эроса.
«Энциклопедия» эротической литургии Дарио – поэма «Блуждание» («Divagación»). Трудности перевода заголовка вызваны его смысловой поливалентностью. Divagar – это и блуждать, и скитаться, и быть в пути, и странствовать, и бродить, и идти. Все эти значения «мерцают» в заголовке, ибо речь идет о поисках пути к своей сущности среди иных миров. Начинается поэма взволнованным вопросом к возлюбленной: «Ты придешь?» Но воображение тут же уносится в «лазурную страну» образов культурно-исторической чувственной, эротической любви: любовь древнегреческая («тебе нравится любить по-гречески?»), итальянская в духе Возрождения, немецкая (в вагнеровском духе), испанская (с цыганским акцентом), восточная (китайская, японская), индийская, наконец, негритянская (стилизованная в духе библейской «Песни песней»). Завершается эта прогулка вырывающимся из культурно-исторических контекстов деперсонализированным, космическим образом Эроса. Путешествие по Любви-Эросу – культовое действо. Образы любви у поэта – это парафраз парафразов образов культур во французской поэзии, в «Галантных празднествах» Верлена, а также у Готье, парнасцев, Мореаса…
К этой «энциклопедии» примыкают более частные вариации основной темы, такие шедевры, как стихи «Воздух был нежен» (галантная любовь в духе Клодиона, Ватто, придворной версальской культуры), «Сонатина» (любовь в духе сказок и легенд о Спящей Красавице), «Маргарита» (в духе Готье) и так далее – в духе Д’Аннунцио, Верлена и т. п. Вариации эти бесконечны в любовных стихах Дарио и за пределами «Языческих псалмов». Как на вселенском карнавале, у него встречаются маски всех любовных культур и стилистические контексты всех времен, от современной ему Франции, времен «чистой поэзии», модерна, гашиша и альковной любви, – и далее вниз по исторической вертикали до культуры рококо, барокко, Ренессанса, Средних веков, легенды, сказки, мифа.
Дарио не был бы выдающимся поэтом, если б ограничился парафразами. Но он включил их в единое общее поле травестии, имеющей единую и самостоятельную философско-художественную платформу. К этой основе, словно затягиваясь в крутящуюся воронку водоворота, спускаются по исторической вертикали, устремляясь к единому мировоззренческому центру, все контексты. Эта платформа – мифологизм, чаще всего в античной эллинистической форме. И в отличие от французского экзотического эллинизма, у него иной, почти пугающий смысл подлинного мифологизма.
Карнавальный эротизм Дарио встретился в глубинах истории с истоком карнавальной культуры – дионисийской вакханалией, ее центральное и высшее действо – профанирующее и сакральное по своему смыслу оргиастическое соитие, имеющее трансцендентный мифологический смысл. В поле токов этого мифологизма любовные маски разных эпох обрели глубинное архетипическое значение и, включенные в единую систему, редуцировались в единые образысимволы. И из глубин и начал, из вихря кружения карнавальных масок эроса, поэтическая мысль словно вылетает в космическое пространство. А это уже не «галантные празднества» Верлена.
Как в истинной мифологической культуре, Эрос у Дарио слился с безликим пространством Космоса, где происходит оргиастическое действо творения. «Лазурная страна» Дарио – это пространство, словно равновеликое Космосу, зона экзистенциальных категорий, сущностных сил, мистерии бытия. Это сакральное мифологическое целое космоса и природы, в котором пространство и время слиты воедино, в космический театр, где живут лишь боги, поэт, его муза и царит панэротическая мистерия бытия.
В мифологии Дарио нет системы. Основа его мифологизма – намеренно смешанные элементы древнегреческой и древнеримской мифологии, но когда поэт формулирует первоосновы своего космоса, он выходит за рамки античного мифологизма. Для обозначения высших сил он избирает образы Зевса и Венеры, а в моменты высшего напряжения происходит словно бы прорыв в «бездонность» космоса, где уже нет конкретных богов, лишь чистые сущности в разные моменты обозначаются деперсонализированными образами: «Великое Все», «Великое Лоно», «Божественное Вдохновение», наконец, как он пишет в предисловии к «Языческим псалмам», «Бессмертная Самка». Это понятие по-испански звучит: «Varona Inmortal», и более точный перевод – хотя это не передает игру смыслов – «Бессмертная Муже-Дева», ибо «varona» образуется от «varón» (мужское начало). Последнее существенно, ибо в оргиастическом космосе Дарио женское и мужское начала, как и в древнейших пластах мифологии (и античной, и ведической, и др.), объединены в единое целое – плодотворящую силу. Дарио не раз обращался к классическому древнегреческому сюжету и образу Гермафродита: андрогинное единство – это, по логике панэротического мифологизма, условие космической гармонии. А мистерия Дарио не хаотична, она имеет организующий центр, собирающий «Великое Все» в гармоническую систему, и медиатор ее – Поэт. Он находится в средостении, где встречаются небо и земля.