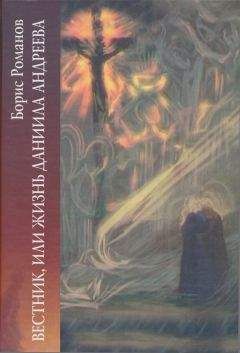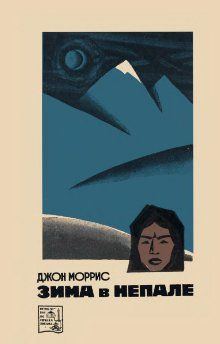Он считал, и небезосновательно, что тюрьма с нерушимыми стенами куда меньше лагеря покушается на внутреннюю свободу. Не всуе
Варлам Шаламов, прошедший всеми зековскими кругами, заявил: "Тюрьма — это свобода". Поверивший в брезжащее освобождение, Андреев его боялся, трезво оценивая свое нездоровье, предвидя бездомье и безденежье. "Начинает казаться, что наша с тобой встреча ближе, чем я раньше предполагал, — воодушевляет он жену. — … Но при этом обозначаются некоторые такие сложности и трудности, перед которыми я останавливаюсь в полном недоумении: как же я должен себя вести и что делать. Ты, безусловно, некоторых из этих сложностей даже и не подозреваешь. Надо полагать, пенсия инвалидов Отечественной войны будет восстановлена…"[514]
Больное сердце давало знать — стало трудно одолевать тюремные лестницы. По временам приходилось принимать нитроглицерин, несколько раз понадобились уколы камфары. "Вообще, пока я остаюсь на одном месте и без особых волнений, все идет отлично, — успокаивал он жену в октябрьском письме. — Усиленно работаю; много сделал за последние пол года. Душевное состояние довольно устойчиво и было бы еще лучше, если бы я мог быть уверен, что останусь здесь до весны. Ко всем переездам я испытываю глубокое отвращение, и прежде всего потому, что плохо представляю, как я с ним справлюсь. Ведь сейчас я не могу даже поднимать или носить собственного багажа, хотя он вовсе уж не так громоздок. Но так как состояние сердца улучшается, хотя медленно, но верно, то я и надеюсь, что к весне смогу справиться со всяким переездом"[515].
Юлия Гавриловна навещала его еще дважды — в августе и в октябре. Он ничем не мог отплатить ей за упрямую самоотверженную заботу, не мог вернуть ей дочь. Семидесятилетняя старуха, бледная, вымотанная дорогой и поклажей, беспрестанными опасениями, жила, движима собственным пониманием должного. Он ее состояние понимал: "Держит себя в руках она очень хорошо, но, конечно, нельзя не видеть, что в сущности это — комок нервов, каждый из которых пронзительно кричит на свой лад"[516]. Она рассказала, что за могилами бабушки с матерью и Добровых, за которыми он просил присмотреть, ухаживает Митрофанов, передала от него посылку. Это растрогало, двоюродного брата он привык считать холодным человеком. Узнал и другое, чрезвычайно огорчившее: слухи, что Зея Рахим к нему подсажен, что может погубить все попытки добиться пересмотра дела. Собственно, это оказалось не последней причиной приезда тещи. Предупреждения о Рахиме, досиживавшим уже десятый год, он слышал не раз, а теперь слух, пошедший гулять повсюду, стал для него "мучительной темой". Сплетня, считал он, основана "либо на недоразумении, либо на дурной воле и искаженности восприятия людей, сводящих личные счеты". Молва дошла до жены, и он уверял ее: "…Ты сама, светик мой, знаешь, как легко возникает и как трудно затухает абсолютно ничем не заслуженная нехорошая молва о человеке". Писал, что "обязан своему другу такой огромной помощью", что если "благополучно переживет этот и еще 2–3 года", то в значительной мере благодаря Рахиму. А сплетня исходит от Александрова. "Сам по себе, он хороший, прекрасно ко мне относящийся, как и я к нему, человек, но сложный, болезненный, противоречивый и с огромным самолюбием. Плюс к тому — недоверчивость, подозрительность, своего рода esprit mal tourn[517]. Причины его антипатии мне известны, мне только жаль, что отзвуки этих конфликтов достигли тебя, да еще в таком искаженном виде. А к пересмотру это, конечно, не может иметь никакого, даже косвенного отношения (даже в том абсурдном случае, если бы "товарищ" был прав на 100 %)"[518]. Но, кроме Александрова, похожее мнение о Рахиме высказывал Парин, а позже выяснилось, что не он один.
Поздравляя в начале декабря жену с близившимся Новым годом, поскольку следующее письмо предназначалось теще, он предсказывал: "…Радость моя, я абсолютно уверен в том, что в наступающем году мы увидимся, — а ты знаешь, я ведь не такой уж безоглядный оптимист. Может случиться так, что ты навестишь меня здесь…"[519]
Алла Александровна, в праве переписки не ограниченная, на каждое письмо мужа отвечала несколькими. В ноябре прислала свои фотографии, ставшие для него событием. После восьмилетней разлуки, в тюремной камере они оживали под взглядом. В лагере разрешалось фотографироваться, правда, без лагерных примет, в вольной одежде. Что ж, и лагерницы хотели на снимках выглядеть нарядней. В тюрьме фотографироваться запрещалось, и он в ответ набросал словесный автопортрет, "дабы ты, — пояснял он жене, — через несколько месяцев при виде столь экстравагантной фигуры не издала легкого крика. Правда, ты увидишь ее в несколько смягченном, так сказать, виде; но все же… Итак, вообрази в стареньком лыжном, когда-то синем костюме длинную фигуру, худоба которой скрадывается множеством наверченных под костюмом шкур. Вечно зябнущая голова украшена либо темно — синим беретом, не без кокетства сдвинутым набекрень, либо полотенцем, повязанным a la bedouin[520]. Ввалившиеся щеки и опухшие веки доказывают, что их владельцу скоро стукнет полстолетия. Взгляд — мрачен, лоб — ясен. Однако воинственный нос свидетельствует, что немощна только плоть, дух же бодр. Ноги всегда босы, и местные жители созерцают уже без изумления, как внушительные ступни, как бы олицетворяя вызов законам природы, мерно вышагивают по снегу положенный им час"[521].
К концу зимы он выслал ей второй автопортрет: "Мою знаменитую шубу еще в прошлом году переделали: укоротили, сделали хлястик и получилось нечто вроде полупальто. Очень легко и симпатично. А из отрезанной полы сделана шапка, вернее, шлем необычайного, мною самим изобретенного фасона, с мысиком на переносицу и с плотно прихватывающими уши прямоугольными выступами. Ничего более теплого и удобного я на голову никогда не надевал. К сожалению, однако, я в ней почему-то делаюсь похож на "великого инквизитора". А один человек прозвал меня "нибелунг — вегетарианец""[522].
Зимой на него опять навалилась депрессия. "Состояние "бездарности", кот<орое>я вообще переношу с трудом, если только не нахожусь среди природы, сейчас окрашивает для меня почти все, — сетовал он в письме жене. — …Бесенок депрессии зудит, что, дескать, упадок не закономерен, т. к. наступил слишком скоро, что это — конец искусству, да и жизни вообще — и т. п.: хорошо знакомая тебе песня. Но ни о каком конце вроде Климентовского (герой "Странников ночи", покончивший с собой. — Б. Р.) я не помышляю. Это — не помыслы, а только иногда поднимающееся непроизвольное чувство. Да и вообще, состояния, даже желания, стали двойственны и противоречивы. Восемь с 1/2 лет одних и тех же впечатлений вызывают все чаще мозговую тошноту. Но беда в том, что ее вызывает и многое другое, Даже, в каком-то смысле, моя излюбленная Индия. Фотография Тадж — Махала в газете привела меня в состояние, напоминающее чувства Адриана (другой герой "Странников ночи" — Б. Р.), когда он из трамвайного вагона поспешил, чуть не попав под грузовик, к разгуливавшему по тротуару парню. Фиолетовые круги, и все зазвенело каким-то тонким комариным гудом. К сожалению, чувства этого рода становятся повседневным явлением"[523].
Имена героев "Странников ночи" давно стали для них шифром, непонятным для цензорских глаз. Себя Андреев в письмах называл
Олегом — так звали одного из братьев Горбовых, поэта, в роковом романе.
В конце года в Дубровлаг перевели однокамерника Андреева — Николая Садовника. "Нельзя не уважать глубоко человека героического склада, абсолютной честности и к тому же обладающего удивительно нежной душой, обнаружения которой тем более трогательны, что обычно на виду — мужественная, грубоватая сила, кажущаяся совсем примитивной, — восхищенно писал о нем Андреев. — А за плечами — настоящие подвиги, в высшем смысле этого слова. Если на склоне лет такой человек дойдет до границы праведности, в этом не будет ничего удивительного"[524]. С собой Садовник вез тетрадь стихов Даниила Андреева, тщательно, почти печатными, мелкими буковками им переписанных. Тетрадь в клетку вместила семь глав "Русских богов" — "Сквозь природу", "Босиком", "Миры просветления", "Гибель Грозного", "Рух", "Святые камни" и "На синем клиросе" (окончательное название — "Голубая свеча"). В начале январе Садовник смог передать ее по назначению — жене поэта. Она отозвалась сразу: "Ни одного слова, кроме радости. Кажется, больше всего нравится "На перевозе", потом "Шаданакар", потом "Нэртис", потом "Ливень", но это — просто так, без причин"[525].
В наступившем году Даниил Андреев занимался трактатом и завершением "Железной мистерии". 2 мая сообщил об ее окончании жене: "Сегодня кончил курс занятий, начатый еще в 50 г. Не станцевали буги — вуги или джигу только из-за сердца". К письму приложил вступление: