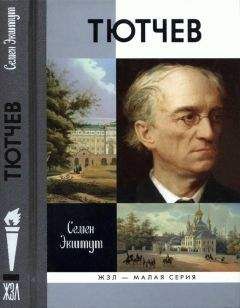Любовь Васильевна была хорошо знакома с замечательными людьми: Анной Ахматовой, Анной Остроумовой-Лебедевой, Николаем Тихоновым, Алексеем Толстым, Дмитрием Шостаковичем, Марией Юдиной; её мужем был композитор Юрий Шапорин. И обо всех Шапорина пишет «с откровенностию дружбы или короткого знакомства». Одного этого достаточно, чтобы привлечь внимание к её дневнику. Вспомним Пушкина. «В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принуждён был сжечь сии записки. Они могли замешать многие имена и, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая театральная торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей»[80].
Вот уж чего совсем нет в дневнике Любови Васильевны, так это «театральной торжественности», особенно когда речь заходит о живом классике советской литературы «красном графе» Алексее Николаевиче Толстом, с которым Шапорина была знакома с юных лет. О нём она высказывается без малейшей доли пиетета. Перелистаем несколько страниц. «Прежде Алексей Николаевич вносил с собой массу веселья; с тех пор же, как им всё более овладевает правительственный восторг, его шум становится какой-то официозной демагогией. <…> Когда он меня видит, сразу же начинает исторические разговоры, всегда великодержавные. Он весь теперь — правительственный пафос. <…> И это наш лучший писатель! Такое легковесие. <…> Жалко мне Алексея Николаевича. Хотя он и поверхностный и малосердечный человек, но из него брызжет талантливость. И он, конечно, великолепно знает русский язык, прекрасно им владеет. Знаю я его 37 лет! Это главное. <…> А. Н. скорее идеализировал всё совершающееся, чтобы не нарушать своего покоя. Он не был воителем, а шёл на все компромиссы» (I, 147, 151, 461; II, 200).
Ведя дневник, Любовь Васильевна ходила по острию ножа сама и подвергала опасности очень многих. В годы «большого террора» многие интеллигенты уничтожали даже записные книжки с адресами и телефонами, которые в случае ареста могли стать важной уликой и погубить не только владельца, но и кого-то из его знакомых. Трудно себе представить, к каким бедствиям привёл бы этот дневник, если бы он попал в руки следователей НКВД. 16 сентября 1941 года, когда падение Ленинграда казалось неминуемым, 26-летний сын Шапориной Василий выразил бурную радость. Он буквально обезумел от бомбёжек города немцами и от непрекращающихся арестов, которые проводили в прифронтовом Ленинграде сотрудники НКВД, зачищавшие город от «врагов народа». Любовь Васильевна записала в дневник: «„Чему же ты радуешься?“ — говорю я. „Всё что угодно, только не бомбёжка“. Я говорю: „Ты не понимаешь трагедии, Россия перестанет существовать“. Он отвечает: „А сейчас? За двадцать три года такой клубок лжи, предательства, убийств, мучений, крови, что его надо разрубить. А там видно будет“» (I, 273). Этой странички дневника было бы достаточно для вынесения смертного приговора Василию Шапорину, а таких страниц в дневнике множество. Чего стоит только одна запись от 14 октября 1941 года! «Взята Вязьма, вчера Брянск, Москва постепенно окружается. Что думают и как себя чувствуют наши неучи, обогнавшие Америку. На всех фотографиях Сталина невероятное самодовольство, каково-то сейчас бедному дураку, поверившему, что он и взаправду великий, всемогущий, всемудрейший, божественный Август» (1, 273–274).
Однако суть дневника заключается не только в остроте критического отношения самой Любови Васильевны и её знакомых к советской власти, но и в той обстоятельности, с которой Шапорина фиксирует каждодневный «недуг бытия», переживаемый советским человеком. Благодаря её дневнику мы можем зримо представить себе те ежедневные тяготы и лишения повседневной жизни, которые пришлось пережить простым советским людям, не имевшим доступа к закрытым распределителям и не обладавшим достаточными средствами для того, чтобы регулярно покупать продукты на рынке и пользоваться услугами спекулянтов. 24 июля 1942 года, в тяжелейшие дни блокады Ленинграда, Любовь Васильевна отмечает: «Я голодна. Съев своё серебро в три дня, я отекла, т. е. появились отеки на лице. И теперь ещё труднее. За серебряный молочник, чайник, сахарницу весом 1 кг 100 гр. (чудесной работы, стиль рококо) я получила 1150 гр. крупы, 600 гр. гороха и 187 гр. масла. Курам на смех» (I, 346). 5 февраля 1949 года в дневнике появляется запись: «Мой гардероб на 32-й год революции: 2 дневные рубашки (одной, из бязи, уже 5 лет, и она рвётся), 2 ночные рубашки, 4 простыни (это счастье!), 3 наволочки, 3 полотенца, 1 пикейное покрывало, 1 платье из крепдешина, сшитое в 1936 году, выкрашенное в чёрный цвет. Всё в дырах, ношу на черном combine. Чулки в заплатах. 1 костюм, ему тоже 13 лет, весь в заплатах. Летнее пальто, тоже 36-го года, шито у Бендерской и хотя перелицовано, но ещё имеет вид. И только что сшитая шуба. Вот и всё. И это у человека, который всё время работает» (II, 119).
Действительно, Любовь Васильевна много работала. Она была создательницей первого в советской России театра марионеток, художницей, переводчицей. Переводы выполняла по договору с издательством, но никогда не состояла в штате, платили ей в издательстве немного и крайне нерегулярно, а обращались по-хамски, кроме того, работа по договору не учитывалась при начислении пенсии. Стремясь свести концы с концами, Любовь Васильевна время от времени продавала оставшуюся после отца и братьев антикварную мебель и книги из своей большой библиотеки, но даже это ей мало помогало хоть как-то заштопать постоянно возникающие дыры в скудном бюджете. За полный комплект исторического журнала «Русская старина», который она так любила читать, Шапорина в конце февраля 1953 года получила всего-навсего 3200 рублей. (Это было месячное жалованье доцента с десятилетним педагогическим стажем.) Для Любови Васильевны вынужденная продажа «Русской старины» стала невосполнимой утратой: с журналом она расставалась как с живым существом. «Больно мне было очень, но так как переговоры шли с ноября месяца, я успела себя подготовить к этому, создать в себе какой-то иммунитет к этой утрате. Ничего поделать не могла, столько долгов накопилось, дети жили впроголодь. И за месяц, за февраль, истрачено почти всё» (II, 227). Её брак с Шапориным распался ещё до войны. Лауреат трёх Сталинских премий практически не оказывал ей никакой ощутимой помощи. Сына Василия, внука Петю, внучку Соню и ещё двух приёмных девочек, дочек «врагов народа», которых Любовь Васильевна взяла из детского дома, — всех их она долгие годы поддерживала, отказывая себе в самом необходимом.
Любовь Васильевна Шапорина, ещё в XIX веке окончившая Екатерининский институт в Петербурге, была редкостной фигурой советского ландшафта: много и тяжело работая, она никогда и нигде не служила, то есть не была штатным сотрудником советских учреждений. Лишь в дни ленинградской блокады Шапорина, чтобы получать рабочую карточку, устроилась медсестрой в госпиталь. Эта уникальная невключённость в советскую систему — с её обязательными для всех штатных сотрудников трудовым распорядком, собраниями, обличениями «врагов народа», коллективными резолюциями, еженедельными политинформациями и ежегодными принудительными займами — именно эта невключённость и позволила Шапориной сохранить незамыленность взгляда и независимость суждений. У неё никогда не было ни малейших иллюзий по поводу «сталинской заботы о простых людях», якобы проявлявшейся во время снижения цен, о чём так любят вспоминать апологеты плановой экономики. Ежегодные послевоенные снижения цен, о которых трубили советские газеты, получали на страницах дневника оценку, глубине и обоснованности которой мог бы позавидовать экономист и социолог: «С 1 апреля [1952 года] снизили цены на продукты на 12 %, 15 % и 20 %. Булка[81], стоившая 2 р. 15 к., стоит теперь 1 р. 85 к., масло вместо 37 р. 50 к. стоит 31 р. 90 к. В большой семье это небольшое снижение очень заметно. В газетах по этому поводу большой шум… А о том, что на заводах уже с февраля проведено снижение расценок… на 30 % на круг, нигде не пишется. Сотня четвёрки (какие-то девятикилограммовые стаканы снарядов) прежде оплачивалась 40 р. — теперь 13. Нормы выполнения также увеличены чрезвычайно» (II, 203). В течение долгих десятилетий Любовь Васильевна, которая никогда не пользовалась никакими привилегиями, вела жизнь рядового обывателя, но никогда не имела ничего общего с безмолвствующим большинством. «Я чувствую себя каким-то дубом на поляне. За 25 лет всё и все менялись, меняли убеждения, верования, взгляды. Я оставалась верна своим убеждениям и самой себе…» (I, 422). Так написала она о самой себе 16 января 1944 года, накануне снятия блокады Ленинграда.
Всякий, кто внимательно прочитает этот дневник, столкнётся с очень сложной проблемой суда Истории, точнее, с проблемой выбора между весами Фемиды и мечом или плетью Немезиды. Что предпочесть — беспристрастное правосудие или неотвратимое возмездие?