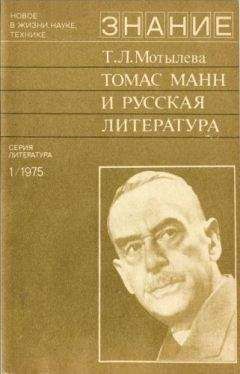Проницательности критика нельзя не отдать справедливости. Действительно, наступало время, когда комедия должна была отделиться от фигуры своего создателя и зажить самостоятельной жизнью. Близилась пора и новых оценок. Только оценки эти будут основаны не на "законах изящного, всегда единых и неизменяемых", как полагал Белинский в 1840 году, а совсем на других началах.
В середине XIX века фигура грибоедовского героя приобрела контуры значимого исторического типа. Именно тогда литература ощутила вкус к символизации исторических характеров. И первым символом суждено было стать Чацкому.
Появился и прямой повод для размышления над судьбой Чацкого и русских Чацких. В 1858 году в Лейпциге вышло первое, без цензурных купюр, полное издание комедии Грибоедова. Затем в 1860 году — второе, берлинское издание. Наконец, "Горе…" (без существенных цензурных искажений) появилось и в России: в 1862 году комедию выпустил демократически настроенный издатель Н. Л. Тиблен.
Именно в эту пору родилась формула, перешедшая в школьные учебники, — "Чацкий–декабрист". Почему эта формула родилась именно тогда? В какой мере отражала она историческую действительность, а в какой — злободневные нужды литературно–общественной борьбы второй половины века?..
Формула возникла в революционном эмигрантском зарубежье, в кружке Герцена. В известном предисловии к сборнику "Русская потаенная литература" (1861) Н. Огарев будет характеризовать Чацкого как "живого человека своей эпохи", "выразившего деятельную сторону жизни негодование, ненависть к существующему правительственному складу общества"[77]. Даже неоправданная, по мысли Пушкина, "говорливость" Чацкого получает у Огарева культурно–историческое обоснование: "…вспоминая, как в то время члены тайного общества и люди одинакового с ними убеждения говорили свои мысли вслух везде и при всех, дело становится более чем возможным — оно исторически верно"[78]. И в конце концов Огарев торжествующе провозглашает: "…едва ли нам можно возразить, что Чацкий не принадлежит к тайному обществу и не стоит в рядах энтузиастов"[79].
Это положение было тут же подхвачено Герценом и прокламировано им со всей определенностью и полемической заостренностью. "…Это декабрист, это человек, который завершает эпоху Петра I…"[80], — пишет он о Чацком в статье "Новая фаза русской литературы" (1864). В эпоху, когда на авансцену революционного движения выступили Базаровы, поколение, сформировавшееся в сороковые годы ("люди 40–х годов"), попыталось выстроить свою генеалогию, подчеркнуть преемственность по отношению к декабристам и укрепить тем самым свою нынешнюю позицию. "Чацкий, — писал Герцен, — это Онегин–резонер, старший его брат. "Герой нашего времени" Лермонтова — его младший брат. <…> Дело в том, что все мы в большей или меньшей степени были Онегиными, если только не предпочитали быть чиновниками или помещиками"[81].
Ревностный интерес Герцена к Чацкому имел особую подоплеку. Дело в том, что "люди 40–х годов", к которым принадлежал и Герцен, воспринимали фигуру Чацкого в высшей степени интимно. Им было свойственно свою судьбу, свое положение проецировать на судьбу Чацкого. Они охотно уснащают свои горькие монологи явными или скрытыми цитатами из "Горя от ума".
Так, Т. Н. Грановский говорит о "фамусовско-репетиловской" Москве, явно памятуя гневные инвективы Чацкого: "С этой барской, пошлой, тупоумной Москвой, представителем которой является английский клуб, с этой апатичной, ленивой Москвой, которая
<…> толкует по старой памяти о своем умственном превосходстве, нелепо хвастает какой‑то будто независимостью, которую приобрела она, — с этой Москвой я не могу, не хочу и не должен иметь ничего общего. Человеку с свежими силами, с неостывшей энергией, с жаждой деятельности, — в Москве делать нечего"[82].
С фигурой Чацкого постоянно соотносит свою судьбу… сам Герцен. Благо, почва для проекций была: резкое неприятие всех сфер русской жизни, отсутствие возможного "дела" в России, "бегство", одиночество, даже переплетенность личной и общественной драм.
В незаконченной повести "Долг прежде всего" герой, Анатоль Столыгин, наделен и автобиографическими чертами, и в то же время — соотнесен с грибоедовским Чацким: "лишний человек" Столыгин "искал куда‑нибудь прислониться, он стоял слишком одинок… без определенной цели, без дела… Опять та же жизнь, которая образовала поколение Онегиных, Чацких и нас всех…"[83]. Жизнь литературного героя — Чацкого — становится символом биографии поколения…
В тяжелый период жизни разочарованный и одинокий Герцен прямо выразит свое состояние строками из монолога Чацкого. Он с болью напишет: "Проезжая тайком Францию в 1852 г., я в Париже встретил кой–кого из русских — это были последние. В Лондоне не было никого. Проходили недели, месяцы… Ни звука русского, ни русского лица…"[84]
Акценты переставлены, интонация переменена с гневно–обличительной на тоскующую. Герцена, конечно, уже не очарует "дым отечества", однако трагедия вынужденного эмигрантства и изоляция первых лет жизни за границей отзовется в этих строках.
Москва 40–х годов, Москва Герцена, оказывается — среди прочих — населена Чацкими. В "Былом и думах" дается иронический смотр Москве и выясняется, что фигура Чацкого — ее необходимый и "вечный" атрибут: "Я в Москве знал два круга, два полюса ее общественной жизни… В ней не приходит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных времен, образований, слоев, широт и долгот русских. В ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчивают свой век; но не только они, а и Владимир Ленский и наш чудак Чацкий — Онегиных было даже слишком много"[85].
Характерно, что и в восприятии нового поколения, "детей", Базаровых, все эти так называемые "лишние люди" русской классики образуют некий единый, глубоко чуждый образ. Для демократов–шестидесятников он станет жупелом. Говоря о том, что историческое время этих героев безвозвратно кануло в прошлое, они будут говорить об исчерпанности и "дела" поколения Герцена.
Особенно афористично выразит это общее отношение к типу дворянина–либерала Писарев: "Время Бельтовых, Чацких и Рудиных прошло навсегда с той минуты, как сделалось возможным появление Базаровых, Лопуховых и Рахметовых…"[86] Ясно, что стрелы метят прежде всего в "отцов" — в поколение Рудиных — людей "со знанием", но без "воли", несостоятельных на "rendez‑vous" с русской действительностью. Однако отношение лагеря демократов–шестидесятников к Рудиным накладывает свой отпечаток и на отношение к Чацкому: он начинает восприниматься ими по той же модели. Так, Писарев отметит "бесплодное красноречие" Чацкого[87]. А еще ранее Добролюбов будет иронизировать над пустотой и мелочностью "маленьких требований" Чацкого и невольно (а может быть, и вполне сознательно) припишет ему сентенции Фамусова о Кузнецком мосте и "вечных нарядах" (так!). "Реальная критика", таким образом, откажет в серьезности идеологическим устремлениям грибоедовского героя, "не замечающего слона"[88], и осмыслит его поведение как формулу, лишенную всякого исторического смысла.
Удар по Чацкому — Бельтову Герцен воспримет как удар по себе — по кружкам 1830—1840–х годов, по времени его молодости и даже по той работе, которая ведется им сейчас в эмиграции. Его статьи конца 1850—1860–х годов, посвященные реабилитации поколения "отцов" — от Чацких до Рудиных, были направлены против крайностей взглядов поколения "детей", Базаровых (в котором, в свою очередь, узнали себя такие люди, как Писарев). В этой полемике декабрист Чацкий, стоявший, по мысли Герцена, у истоков дворянской революционности, постепенно наделялся чертами во многом идеализированного образа "человека 30—40–х годов". Все комическое в Чацком снимается. Вместо этого в грибоедовском Чацком прорисовывается тот героизированный облик, который встречается в работах Герцена, посвященных эпохе его молодости. "Образ Чацкого, печального, неприкаянного в своей иронии, трепещущего от негодования и преданного мечтательному идеалу", — таков герой Грибоедова в статье Герцена 1864 года[89]. Что это, литературная критика, публицистика? Нет, это исповедь "сына века", облеченная в форму литературной критики и публицистики. Говоря о Чацком, Герцен говорит о себе, о своем поколении, о "негодовании" и "мечтательных идеалах" своей молодости. Этот своеобразный "комплекс" Чацкого в мировоззрении людей 40–х годов очень точно указал И. А. Гончаров— сам связанный с этим поколением: "Много можно бы привести Чацких — являвшихся на очередной смене эпох и поколений — в борьбе за идею, за дело, за правду <…> а возьмем одного из позднейших бойцов с старым веком, например, Белинского. <…> Прислушайтесь к его горячим импровизациям — и в них звучат те же мотивы и тот же тон, как у грибоедовского Чацкого. <…> Оставя политические заблуждения Герцена, где он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого, этого с головы до ног русского человека, — вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России. <…> В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого. И Герцен страдал от "мильона терзаний""[90].