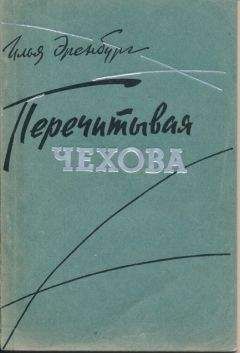Чехову нетрудно было отказаться от манеры Тургенева, которая казалась ему устаревшей. Искусство Достоевского никогда его не искушало: он не любил ни идей, снабженных для правдоподобия именем и костюмом, ни аффектации, ни напряженной интриги повествования. Был, однако, писатель, под влияние которого Антон Павлович мог бы легко подпасть. В незаконченном рассказе «Письмо» герой повествования читает книгу неназванного автора и так отзывается о ней: «Какая сила! Форма, по–видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствуется в этой неуклюжести! В одной фразе три раза «который» и два раза «видимо», фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой, но какой фонтан бьет из–под этих «которых», какая прячется под ним гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда!» Легко догадаться, чье произведение читал герой «Письма», — Чехов говорил Щукину: «Вы обратили внимание на язык Толстого? Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда». С тех пор прошло более чем полвека; все переменилось в нашей стране— и ритм жизни, и люди, и орфография; но в книгах многих современных авторов я нахожу те самые придаточные, то замедленное, нарочито неуклюжее повествование, о которых говорил Чехов. А неуверенный в себе, скромнейший Антон Павлович, лично знавший Толстого, его боготворивший, сумел избежать подражания, создал свой ритм, свою манеру письма.
Флобер мечтал написать роман, в котором ничего не происходило бы. Такого романа он не написал. («Бювар и Пекюше» стал, может быть и не по воле автора, сатирой.) Чехов говорил много раз, что нужно писать просто и о простом, например, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Беллетристы шутили: Антон Павлович, исправляя рассказ, выбрасывает из него все, остается только, что он и она были молоды, влюбились, поженились, а потом были несчастны. Антон Павлович отвечал: «Послушайте же, но ведь так оно и есть на самом деле…»
Толстой, ценивший рассказы Чехова, не принимал его пьес, считал его неудачным драматургом; это мнение разделялось многими. В пьесах Чехова не было ничего связанного с вековым представлением о театре: ни внешнего, ни внутреннего действия, почти живые картины, порой с выстрелами под занавес, где пуля означает только точку. Жан-Луи Барро говорит о чеховском театре: «Каждая минута полна, но полнота эта не в диалоге, а в молчании, в ощущении жизни».
Опрокидывая все каноны, Чехов мгновенно переходил от смешного к печальному, от натурализма к поэзии, и в этом, как во многом другом, он был первым автором новой, сложной И трудной эпохи. Пьесу Треплева
(«Чайка») называли и называют пародией на декадентов. Нина Заречная декламировала под гогот публики: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный путь, угасли… я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь». Треплев был молод и неопытен; но вот творчески зрелый драматург— не Треплев, Чехов — кончает две пьесы лирическими монологами. Ольга в «Трех сестрах» восклицает: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь…» И, конечно же, Чехов не был бы Чеховым, если бы после этих слов военный врач не запел бы «Тара-ра–бум–бия, сижу на тумбе я»…
Все знают, что Чехов страдал от пошлости и точно (по его определению, как химик) эту пошлость изобразил. Но вот рассказ молодого Антоши Чехонте «Поленька». Приказчик Николай Тимофеич влюблен в молоденькую Поленьку, а ей мил студент. Она плачет в магазине, и влюбленный приказчик, чтобы отвлечь внимание покупателей, через силу выкрикивает: «Испанские, рококо, сутажет, камбре… Чулки фильдекосовые, бумажные, шелковые…» Этими словами заканчивается рассказ. Я не знаю, что значит «сутажет» или «камбре» — моды меняются, моды, а не чувства, и конец этого мнимоюмористического рассказа, с пошлыми галантерейными терминами, звучит для меня как высокая поэзия.
7
Читаешь, перечитываешь рассказы Чехова и снова, снова изумляешься жизненности всех этих врачей, крестьян, студентов, учителей, следователей, либеральных дам и расфуфыренных горничных, горемык, поджидающих смерть, приживалок, монахов, толстовцев и пьяниц, жуиров, модисток, актрис, барчуков, голытьбы, «лишних» людей, которые нужны до зарезу, и людей, уверенных в том, что они приносят пользу, которые оказываются лишними, убийц, воров, сладострастников и недотрог, работяг и тунеядцев — множество человеческих судеб, больших трагедий, маленьких драм, драматических водевилей.
Антон Павлович прожил всего сорок четыре года; последние годы тяжело больной, он был обречен на ялтинское заточение. (В сорок четыре года Толстой еще не приступал к «Анне Карениной», Достоевский работал над «Преступлением и наказанием», Гончаров не был автором «Обломова». Если бы Стендаль умер в сорок четыре года, от него остались бы только «Армане» и несколько полемических статей.) Некоторые авторы изображали Чехова вялым, бездеятельным, называли даже «увальнем», а найти в относительно раннем возрасте ключи к тысячам сердец он смог только потому, что страстно любил жизнь, не созерцал ее, но в нее вмешивался.
Он то плыл по Амуру, то бродил по улицам Рима, то колесил по степям Украины, то забирался в глухое русское село. Оставаясь долго на одном месте, он начинал тосковать, строил планы — может быть, поехать в Австралию или на Новую Землю? Он писал в одном из рассказов: «Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку… Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». Где бы он ни был, он повсюду тянулся к людям; не потому, что хотел о них написать, нет, писал он потому, что был увлечен человеческими судьбами.
Всегда у него было множество хлопот. Нужно… Что нужно? Нужно приобрести книги для библиотеки в Таганроге. Нужно построить школу и медпункт в Мелихове. Нужно собрать деньги для самарских детей и открыть столовую. Нужно помочь голодающим в Нижегородской губернии. Нужно устроить в Ялте санаторий для чахоточных. Нужно принять больную — у нее рожа руки. Нужно раздобыть лекарства — много приходит цациен–тов, а лекарств й аптеке Нет. Нужно спасти великолепный журнал «Хирургическая летопись». Нужно раздобыть известь и купорос для дезинфекции. Нужно обходить дома, инструктировать счетчиков — идет перепись. Нужно устроить в Серпухове спектакль. Нужно принять у соседки ребенка. Нужно отправить больного студента Константинова в Крым. Нужно прочитать рассказы Шавровой и дать ей совет. Нужно начать строить вторую школу. Нужно помочь священнику Некрасову вернуться в деревню. Нужно отправить статую Антокольского в Таганрогский музей. Нужно помочь поэту Епифанову, — — он болен, нет денег. Нужно начать строить третью школу. Нужно написать, да поподробнее, Гославскому, почему он не умеет писать. Нужно достать тысячу рублей для Мухалатского училища. Нужно добиться, чтобы в Москве построили клинику кожных болезней. Нужно исправить водевиль Лазарева–Грузинского-— бедняга, сам не сможет. Нужно протолкнуть рассказ начинающего писателя, прописать лекарство почтмейстеру, помочь еврею, у которого нет правожительства, найти должность для неудачника. Он все время что–то делал и при этом уверял всех, что нет на свете человека более ленивого.
Я позволю себе остановиться на одном его увлечении, которое, казалось бы, не связано с работой писателя: он был страстным садоводом, сеял, пикировал, пересаживал, подвязывал, обрезал. Он волнуется, находясь в Ницце, не растопчут ли в саду две лилии. Он умоляет в письмах поливать получше эвкалипты. Когда в Ялте зацвела посаженная им камелия, он послал жене телеграмму. Он выписывал деревья, искал горшки для рассады, холил насаждения. Садоводство не было для него одной из страстишек, какими для многих являются рыбная ловля или охота; он чувствовал в росте куста, дерева то, что сильней всего его волновало — утверждение жизни. Куприн приводил его слова: «Послушайте, при мне же здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе… Знаете ли, через триста — четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад».
Люди, встречавшиеся с Чеховым, рассказывают, что дети и животные сразу чувствовали к нему доверие. Антон Павлович не только любил детей — он их понимал. Детский мир в его рассказах освещен изнутри. Всегда у Чехова были животные — собаки, мангусты, которых он привез с Цейлона, журавль. Таксы Бром и Хина нам хорошо знакомы по его письмам. В. Л. Дуров мне рассказывал, что он дал Чехову сюжет «Каштанки». Но и здесь можно сказать: сюжет не имел существенного значения. Для того чтобы описать состояние Каштанки, когда умирает гусь, требовалось прежде всего понимание собак, любовь к ним.