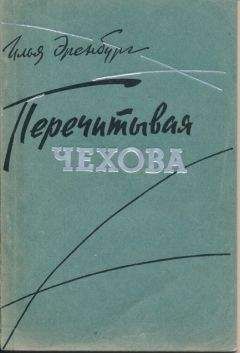Обычно считается, что оптимист не расстается с улыбкой, что у человека, любящего людей, душа нараспашку, что знающий вкус жизни вкусно жует, заразительно смеется, смачно изъясняется и о своем пристрастии к жизни распинается на всех перекрестках. Антон Павлович был сдержан, в его рассказах много описаний человеческих мук, его юмор не шумен, его оптимизм не слеп, и о своей любви к жизни он не распространялся— он любил жизнь без клятв и без проповедей.
Деятельное участие в жизни помогло ему показать не только быт, не только внешний облик эпохи, но и то, что должен увидеть подлинный художник, — душу человека; и, говоря об этом, необходимо остановиться на работе доктора Чехова. Как известно, вначале Антон Павлович считал себя врачом, а в свободное время писал юмористические рассказы. Уже будучи известным писателем, он все еще не решался определить свою профессию, говорил, что медицина его законная жена, а литература — любовница.
Некоторые утверждали, что Антон Павлович стал врачом случайно, что медицина его тяготила и он с радостью от нее избавился; такие суждения основывались на жалобах в письмах, на признаниях, что медицина ему опротивела. Но ведь в письмах Антона Павловича еще больше признаний, что ему опротивела литературная работа. Он никогда не был самоуверен, и если в годы больших успехов он все же не считал себя талантливым писателем, то, и возвращаясь с приема больных, он никак не думал, что он — толковый врач.
В 1899 году он писал: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине мне удалось избегнуть многих ошибок». Литературоведы говорят, что медицинское образование помогло Чехову хорошо описать роды в «Именинах», припадок студента Васильева, патологические элементы в поведении Иванова, героев «Палаты № 6», манию величия Коврина в рассказе «Черный монах». Все это, конечно, верно (наивно было бы, однако, снова поверить скрытному Чехову и рассматривать рассказ «Черный монах» только как описание патологического казуса). Но есть в одном из чеховских писем слова, которые куда лучше показывают, что ему дала врачебная практика: «У врачей бывают отвратительные дни и часы, не дай бог никому этого. Среди врачей, правда, не редкость невежды и хамы, как и среди писателей, инженеров, вообще людей, но те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей, и за сие, говоря по совести, многое простить должно…» Чехов знал, что такое тревога за жизнь больного, сознание бессилия ему помочь, чередование надежды и отчаяния. Без тех «отвратительных дней и часов» ему было бы куда труднее понять дни и часы своих героев. В этом то основное, чем обогатила медицина Чехова–писателя, и это куда существеннее, чем сумма познаний, позволившая ему правильно описать различные патологические случаи.
8
Чехов часто с признательностью и нежностью говорил о Мопассане. Есть в мастерстве Чехова и Мопассана нечто общее — хотя бы то, что они оба достигли необычайной выразительности короткого рассказа, зачастую лишенного фабулы. Однако Чехов не похож на Мопассана, и остается только удивляться, как могли некоторые критики десятки лет именовать Антона Павловича «русским Мопассаном».
Сравнение писателя с зарубежными авторами всегда натянуто: в художественном гении сказывается характер народа; не было и не могло быть французского Диккенса, русского Вольтера, французского, английского или немецкого Чехова. Писатель Елпатьевский вскоре после кончины Антона Павловича писал: «Несомненное несчастье для Чехова — то, что он родился в России. С его жадностью к жизни, к краскам ее, с его проникновением красоты, с его огромным дарованием и чисто художественным темпераментом, он развернулся бы во всю ширь своего таланта и расцвел бы во всю красоту своей художественной натуры там, где так много солнца и красок жизни, где ничто не мешает расти тому, что может расти, где не взваливается на плечи человека ноша, которой он не может нести. А он жил в сумерках русской жизни…» Полвека спустя мы видим, насколько случайны и необдуманны были такие сожаления. Дело не в том, что Мопассан, живший в стране, где много солнца и красок, томился не менее Чехова, хотя и совсем по иным причинам, страдал от жизни вдоволь и умер в возрасте сорока трех лет; дело в другом: если бы Чехов родился не в России, он, может быть, и стал бы замечательным писателем, но Чехова не было бы.
Конечно, как художник, Чехов многое начинал и со многим порывал. Конечно, в отличие от своих предшественников, он не любил поучать; от него нельзя было ждать ни «Дневника писателя», в котором Достоевский наставлял своих читателей, ни «Послесловья к «Крейцеровой сонате». Но то сознание ответственности, которое было присуще русским писателям XIX века —и Гоголю, и Достоевскому, и Толстому, — жило в Чехове. Елпатьевский в статье, которую я цитировал, рассказывает, что однажды Мопассан решил вместе с несколькими молодыми писателями издавать газету. Тургенев спросил, какими принципами будет эта газета руководствоваться; Мопассан Ответил: «Никаких принципов!» Достаточно вспомнить, как рассердился Антон Павлович, когда в «Русской мысли» его назвали «беспринципным», чтобы понять пропасть, отделявшую его от Мопассана. «Отвратительные дни и часы», тревога за человека, ответственность за него были чужды не только Бальзаку, но и горестному Мопассану.
Я вспоминаю крестьян в повестях Чехова и в новеллах Мопассана. Оба показали уродливый, страшный быт; но для одного крестьяне — люди, исковерканные условиями жизни, для другого — чудища, раритеты, существа иного мира. И если Мопассан терзался от сознания своего одиночества, то Чехов страдал от одиночества людей. Мопассан дошел до отчаяния — не знал, что ему делать, как ухватиться за ободок жизни. Чехов мучился, подобно профессору в «Скучной истории», не зная, что ответить Кате, Зинаиде Федоровне, тысячам других, взыскующих правды, что подсказать людям для того, чтобы жизнь стала светлее, чище, человечнее. Я далек от желания умалить искусство Мопассана; это писатель, которого я люблю; да и не посмел бы я, говоря о Чехове, чернить художника, ему милого и близкого. Я хочу только отвести ненужное и неудачное сопоставление. Были у Мопассана краски, чувства, темы, чуждые Чехову, наверно ему недоступные. Но никогда Мопассан не смог бы написать «Скучную историю», «Рассказ неизвестного человека» или «Палату № 6». Говоря о России, французские литераторы слишком часто пытаются объяснить непонятные им явления словами «славянская душа». Какие–то особые свойства особой души, по их словам, делают понятными и Октябрьскую революцию, и русскую музыку, и смерть Толстого на полустанке, и многое другое. Разумеется, статьи о Чехове не обходятся без «славянской души». Как ни наивны подобные суждения, они показывают наличие и в русской истории, и в русской литературе некоторых черт, чуждых Западу; мне думается, что зарубежных читателей поразила в русских книгах необычайно обостренная совесть, и, может быть, именно это сильнее всего отличает Чехова от Мопассана.
9
Меня всегда удивляло, что французское слово «сопзаепсе» имеет двоякое значение — сознания и совести, хотя совесть не всегда связана с ясным сознанием. Я говорил, что именно обостренная совесть поразила читателей Запада в русской литературе XIX века — от «Шинели» до «Воскресения». Однако у сердца бывают большие открытия и большие ошибки: так, Гоголь пришел к мистическому оправданию ненавистного ему крепостничества, петрашевец Достоевский написал «Бесы», а величайший художник России в старости предал анафеме искусство. Чехов и в этом не походил на своих предшественников: он обладал и совестью и сознанием. Мы вправе говорить о его сложившемся, едином мировоззрении; с годами оно расширялось, углублялось, но не было у него ни крутых поворотов, ни отречений.
Во многом он опередил свое время. Когда старый Толстой проповедовал возвращение к простой, первобытной жизни, когда молодой Мережковский и его друзья пытались возродить религию, связать ее с идеалистической философией, Чехов предвидел взлет естествознания и ту роль, которая предстоит точным наукам; он писал в 1894 году: «Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своей массою, грандиозностью…»
Конечно, уж одно то, что он был врачом и до самой смерти не переставал следить за развитием медицины, предопределяло его отношение к науке. В молодости он увлекался Дарвином. В 1889 году он писал по поводу романа Бурже: «Если говорить о его недостатках, то главный из них — это претенциозный поход против материалистического направления. Подобных походов я, простите, не понимаю. Они никогда ничем не оканчиваются и вносят в область мысли только ненужную путаницу. Против кого поход и зачем? Где враг и в чем его опасная сторона? Прежде всего, материалистическое направление — не школа и не направление в узком газетном смысле; оно не есть нечто случайное, преходящее; оно необходимо и неизбежно… Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины».