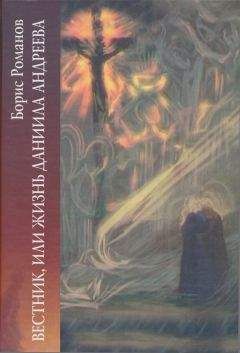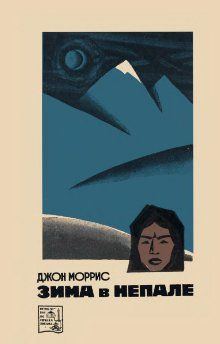Работа, трактиры, метанья. Лето кончилось разрывом.
В письме в Нижний к ее брату Петру Михайловичу Андреев доверительно делился переживаниями: «Не знаю, что думает и чувствует Алек<сандра>Михайловна. Я же думаю и чувствую, что отдавши сердце, не легко взять его обратно… Как никак, а больно»[9].
В начале следующего года, поддавшись уговорам, он лег в клинику: лечиться от «нейрастении». Александра Михайловна навещала его тайком от матери. Они помирились. В рассказе «Жили — были» Леонид Андреев описал эти посещения: «К нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного… и просиживала от двух ровно до четырех».
Жених, неустроенный, неуравновешенный, страдал припадками меланхолии, бывали запои. Недовольство, тревоги Евфросиньи Варфоломеевны понятны. Леонид Андреев делал успехи — в 1901 году у него вышла первая книжка рассказов, о которой стали писать, говорить, — но это ее не поколебало.
Венчание состоялось в половине шестого 10 февраля 1902 года в церкви Николая Явленного на Арбате.
В заснеженной Москве было неспокойно. «Анархия в самом воздухе… страшное возбуждение»[10]. В ночьна31 января у Андреева полиция провела обыск: искали письма Горького, на письма Пешкова внимания не обратили, но взяли с обысканного подписку о невыезде. Горькому он писал: «Плохая, друже, свадьба. Вчера пропал без вести мой брат (художник); вероятно сидит в Бутырках. Маминька моя воет.
…Центр города занят войсками и казаками; улицы оцеплены… Встретил я несколько черных и длинных, как гроба, карет под сильным конвоем казаков — и заплакал.
Тошно. А отложить свадьбу нельзя. Съехались со всех концов родственники, старики и старухи…»11
Поручителем при женихе был поручик Воронежского пехотного полка Михаил Александрович Добров. Невысокий, уже полнеющий, как все Добровы. В год рождения Даниила за устройство под Тамбовом тайной лаборатории, изготавливавшей бомбы, он был арестован и сослан в Иркутскую губернию. Видимо, слухи о его революционных занятиях и вызвали фантастические воспоминания Андрея Белого: «дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сиживал я с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым; даже не знали, что можем на воздух взлететь: бомбы делали — под полом…»[11] Этот дом, в котором Даниил Андреев прожил большую часть жизни, не уцелел, — революционные бомбы, уже после смерти его обитателей, взорвались.
Александра Михайловна была моложе мужа на десять лет, ей исполнился двадцать один год. Все, кто знал ее, говорили и писали о ней если не восторженно, то с явной симпатией, называя юной и милой, веселой и нежной. Все свидетельствовали: «в семейной жизни Андреев был очень счастлив»[12]. Вересаев, человек и писатель не склонный к преувеличениям, заметил: «Лучшей писательской жены и подруги я не встречал»[13]. Горький запомнил ее «худенькой, хрупкой барышней с милыми ясными глазами», скромной и молчаливой. Говорил о ней как о редкой женщине с умным сердцем и любил называть «Дамой Шурой». В воспоминаниях он приписал себе авторство этого прозвища, нравившегося самой Александре Михайловне. На самом деле так прозвал ее едва начавший говорить сын, Вадим. Об этом она написала в дневнике.
Л. Н. Андреев и А. М. Андреева. 1902. Бутово
В свадебное путешествие, убегая из неспокойной Москвы, Андреевы отправились через Одессу в Крым. Там в Олеизе, у Горького, на просторной даче «Нюра» пробыли около месяца. Для Леонида Андреева годы, прожитые с Шурой, были счастьем — незамечаемым, недолгим. Годы, в которые он вкусил не только счастье, но и славу — стал одним из самых знаменитых русских писателей.
На Рождество, 25 декабря 1902 года, родился их первенец, Вадим. Родился он в Москве, на Большой Грузинской, а почти всю жизнь прожил за границей. В отличие от младшего брата, появившегося на свет в Берлине, и за рубежом, если не считать гощений у отца на финляндской даче, больше не побывавшего.
Из Москвы, где жизнь, как он признавался, для него становилась невозможной, Леонид Андреев уехал в октябре 1905–го: «не хочу видеть истерзанных тел и озверевших рож». Революционный год, при всей его вере в «благодатный дождь революции», был тяжек. Арест. Две с лишком недели в Таганской тюрьме. Он с семейством перекочевывал с квартиры на квартиру. Автору «Красного смеха» угрожали: «Надо убить эту сволочь!»
Из Петербурга Андреев отправляется в Берлин. В мае следующего года селится под Гельсингфорсом. За ним следит полиция. Опасаясь ареста, он скрывается две недели в норвежских фиордах и, хотя утверждает, что не любит этого города, опять уезжает в Берлин.
Рождение Даниила — доктора обещали дочь, — ожидалось Леонидом Николаевичем с некоторой тревогой, к которой он старался не прислушиваться.
В Берлин они переехали из Финляндии 14 августа. В городе стояла тяжелая, угарная жара.
В сентябре Андреев писал Горькому: «Шуркино здоровье плоховато, а на днях нужно ожидать приращения»[14]. Все, что мог, он сделал — из раскаленного каменного центра они перебрались в уютное дачное предместье: роскошная вилла, комфорт, рядом мать и теща, опытная акушерка, берлинские врачи.
А в рассказах и пьесах его предощущение роковых событий, трагически неминуемых. Но это в нем было всегда. В письмах же из Берлина старается быть шутливым: «Работать тут удобно… На днях должна родить Шура… Грюневальд, вилла Кляра. — Хороша, брат, вилла: живу прямо в райской местности. Зелень и цветы»[15]. «Живем мы так. Вообрази: Грюневальд, барская квартира, в которой одних фарфоровых собачек и свиней около миллиона, да 500 тысяч портретов Вильгельма и Бисмарка; принадлежит вилла бургомистру… И живут в квартире: мы, акушерка, мать Шуры и мать моя, и все ждем, когда Шура разродится»[16].
Он гуляет по лесистому Грюневальду, катается на велосипеде, работает. Это здесь дописывалась «Жизнь Человека». Через год он вспоминал: «И последнюю картину, Смерть, я писал на Herbertstr., в доме, где она родила Даниила, мучилась десять дней началом своей смертельной болезни. И по ночам, когда я был в ужасе, светила та же лампа»[17].
А. М. Андреева. 1906
Даниил Андреев родился 2 ноября (20 октября по старому стилю) в Грюневальде, на Гербертштрассе, 26.
У матери началась послеродовая горячка.
Вот письмо Леонида Андреева Горькому от 24 ноября 1906 года: «Милый Алексей! Положение очень плохое. После операции на 4–й день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться — как снова жестокий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными вспрыскиваниями кофеина, сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали, что надежды в сущности нет и нужно быть готовым. Вообще последние двое суток с часу на час ждали конца. А сегодня утром — неожиданно хороший пульс и так весь день, и снова надежда, а перед тем чувствовалось так, как будто уже она умерла. И уже священник у нее был, по ее желанию, приобщил. Но к вечеру сегодня температура поднялась, и начались сильные боли в боку, от которых она кричит…
Сейчас, ночью, несмотря на морфий, спит очень плохо, стонет, задыхается, разговаривает во сне или в бреду. Иногда говорит смешные вещи.
И мальчишка был очень крепкий, а теперь заброшенный, с голоду превратился в какое-то подобие скелета с очень серьезным взглядом.
<…>Не удивляйся ее желанию приобщиться, она и всегда была в сущности религиозной.<…>23 дня непрерывных мучений!»[18]
27 ноября Александра Михайловна умерла. Новорожденного забрала бабушка и увезла в Москву, в семью другой своей дочери, Елизаветы Михайловны Добровой. Даниил много болел, его с трудом выходили.
Александру Михайловну похоронили в Москве, на Новодевичьем, 5 декабря, на том месте, которое Леонид Андреев когда-то купил для себя. Стужа была в этот день, вспоминал Борис Зайцев, присутствовавший на похоронах, жестокая.
Андреев, в полном отчаянье, со старшим сыном и матерью отправился на Капри, к Горькому. Вот и после свадьбы он с Шурой поехал к Горькому… На Капри запил. Боялись за его рассудок. «Все его мысли и речи, — вспоминал Горький, — сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели „Дамы Шуры“.
— Понимаешь, говорил он, странно расширяя зрачки, — лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.
Одетый в какую-то бархатную черную куртку, он даже внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти»[19].