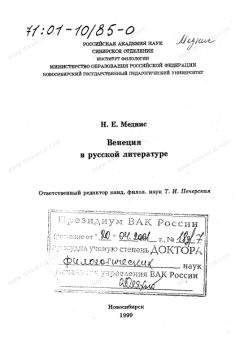На первый взгляд кажется, что и в Венеции обнаруживаются те же соотношения, однако в истоках своих связи воды и камня в двух городах в принципе различны, что во многом определяется характером сакрализации городского пространства. Петербург, несмотря на официальное добавление к его имени приставки Санкт, и в истории, и в сознании людей более соотносится не с апостолом Петром, а с выдающимся, но земным строителем своим. Следующая отсюда череда замещений приводит не только к десакрализации Петербурга, но и к объявлению его антихристовым городом. В Венеции, при всей значимости творческого порыва земных строителей города, их труд и вдохновение оказываются вторичными и производными от божественного промысла, выраженного в предсказании, сообщенном святому Марку. В результате Петербург остается, по сути дела, без небесного покровителя, а Венеция поклонялась и поклоняется своему святому патрону, оберегающему ее. Воды в этом случае подчинены высшей воле и даруют камню если не вечность, то долгожительство.
По-разному представлена в двух городских текстах и проблема власти. Петр I, стоящий у начала северной столицы, и дальше остается ее первым и единственным властителем, мистически воплотившись в Медном всаднике так, что, несмотря на исторические перемены, петербургскую Россию трудно представить вне абсолютной власти, по преимуществу, в ее мужском выражении. Венеция, напротив, практически непредставима в качестве монархии, ибо ее выборные дожи и сенат, при всей масштабности их полномочий, утверждали себя и воспринимались народом как слуги Венеции, которая одна только и могла предстать в этом государстве коронованной особой.
В системе русской ментальной культуры Венеция в какой-то мере выполняет ту роль, которую могла бы выполнять Москва в случае большей проясненности и, главное, актуализированности московского текста русской литературы. Однако речь здесь, на наш взгляд, могла бы идти действительно лишь о той или иной степени замещения, но не о его полноте, ибо в силу всемирности Венеции функция ее как пространственного воплощения женской ипостаси в любом случае будет значима для России. Кроме того, женское начало в водном городе выражено неизмеримо сильнее, чем в любом городе земном.
Из всего сказанного следует, что петербургский и венецианский тексты русской литературы, в чем-то перекликаясь, в чем-то решительно расходясь, должны взаимно дополнять друг друга, и это в значительной мере подтверждается всем строем русской литературной венецианы, в которой на уровне пространства и имени, в системе зеркальных проекций и в ощущении жизни и смерти обнаруживаются специфические черты венецианского мира, фоново отсылающие читателя к миру петербургскому, но в глубинном значении не повторяющие его. В этом смысле венецианский текст сам по себе оказывается способным выполнять по отношению к автору и читателю своего рода компенсаторную функцию и уравновешивать противоположные начала даже вне эмпирического соприкосновения с Венецией. Следовательно, текст этот, подобно петербургскому, выступает в цельной системе уже как необходимая реалия бытия, и отношения с ним можно в какой-то мере рассматривать как показательные не только для отдельного человека, но и для всей русской культуры в целом. В этом качестве он и приобретает определенную автономность по отношению к городу, его породившему, что подтверждается значительным рядом произведений о Венеции, созданных авторами вне какого бы то ни было эмпирического соприкосновения с нею. Таким образом, русская венециана являет собой особый литературный пласт, благодаря которому в российском ментальном пространстве реализуется присутствие Венеции как необходимого душе уголка мира. За пределами своими, интегративно представленная в качестве цельного текста, Венеция продолжает жить как единица национального сознания, как комплекс смыслов и переживаний, в каковой функции ее трудно переоценить. Структуризация и анализ этой венецианской метареальности, существующей в русской литературе, и являются нашими задачами.
При этом необходимо отметить, что воссоздание сверхтекста — это всегда в той или иной мере акт мифотворения. Когда же речь идет о таких явлениях, как петербургский или венецианский тексты, степень мифотворчества заметно возрастает. Таков факт, который должен осознавать и с которым должен считаться и тот, кто воссоздает подобные метатексты, и тот, кто их воспринимает. В этом смысле совершенно справедливо замечание И. П. Смирнова о том, что «экспликация „петербургского мифа“, предпринятая В. Н. Топоровым, — еще один петербургский миф уже потому хотя бы, что она рассматривает его как в-себе-завершенный»[10].
Венецианский текст отличается в данном отношении от петербургского лишь тем, что его позволительно рассматривать как в-себе-завершенный в плане топографическом, ибо Венеция в своем пластическом облике, отраженном в литературе, стремится к устойчивости, сохранности. Изменения, которые произошли в течение ХХ века в связи с потребностями развитого туризма, не оказали существенного влияния на облик Венеции. Ее внутреннее пространство осталось структурно неизменным, вернее, оно меняется ровно настолько, насколько все его составные подвержены влиянию медленно текущего времени. Тем не менее, пытаясь воссоздать венецианский текст русской литературы, мы уже изначально имеем дело с некими осколочными мифологизированными образованиями — конкретными литературными произведениями, — которые, как и сам венецианский текст в целом, не могут быть проверяемы на достоверность и точность отражения первичной реальности, то есть на подлинность венецианского культурно-исторического контекста и пластического облика Венеции. Это очень точно выразил А. Блок в письме к редактору журнала «Аполлон» М. С. Маковскому от 23 декабря 1909 года: «Сверх того, внимательно просмотрев Ваши замечания, я должен прибавить, что ничего не имею против некоторых из них (по преимуществу грамматических) внешним образом (но не внутренним); зато одно меня поразило: рядом со словами о „Марке“ и о „лунной лагуне“ Вы пишете: „Неверно. Лагуна далеко от Марка“. Таким образом Вы подозреваете меня в двойном грехе: в незнании венецианской топографии и в декаденстве дурного вкуса (ибо называть лагуну, освещенную луной, „лунной лагуной“ — было бы именно бальмонтизмом третьего сорта). Уверяю Вас, что я говорю просто о небесных лагунах — менно о тех, в которых Марк купает свой иконостас (в данном случае портал) в лунные ночи»[11].
Как видим, А. Блока поражает странная для столь близкого к искусству человека, как М. С. Маковский, способность смешения эмпирического и поэтического бытия, смешения языков в исходном моменте рождения произведения. Топография для А. Блока значима, но она либо лежит за пределами поэтического текста, либо, вписываясь в поэтическое бытие, подчиняется ему. Прочтение же поэтического на языке фактического равно разрушает обе реальности.
Правда, литература нередко провоцирует читателя, подталкивая его к подобного рода смешению, что характерно для так называемого реалистического изображения Венеции с сознательно, а порой нарочито сниженным образным рядом. Такие варианты в составных мирового венецианского текста довольно часты и встречаются в разных произведениях, независимо от времени их создания и эстетической парадигмы авторов, начиная от Д. Рескина, писавшего в «Stones of Venice» о грязных каналах и площадях Венеции[12], до Ю. Буйды, постоянно упоминающего в романе «Ермо» о гнилостном запахе воды, к которому примешивается заах солярки[13]. Порой, как, к примеру, в стихотворении В. Ходасевича «Нет ничего прекрасней и привольней…», эта внешняя бытовизация возникает как протест против литературных клише, заполонивших венецианский текст, на что уже указывал Л. Лосев[14]. Однако, несмотря на кажущуюся или даже подлинную достоверность, все подобные явления принадлежат литературному венецианскому тексту, являясь единицами цельного венецианского мифа.
При этом самодостаточность, характерная для всякого мифа, в венецианском тексте утверждается благодаря переводу образа на такую орбиту, где Венеция, независимо от ее физического существования, предстает как необходимая духовная субстанция. Сложный характер отношений Венеции-во-плоти и Венеции-вне-Венеции очень глубоко понял и точно выразил М. Пруст в первой книге романа «В поисках утраченного времени» — «По направлению к Свану». Герой его романа создал свою виртуальную Венецию в «умозрительном пространстве» и «воображаемом времени». «Даже с чисто реалистической точки зрения, — пишет М. Пруст, — страны, о которых мы мечтаем, занимают в каждый данный момент гораздо больше места в нашей настоящей жизни, чем страны, где мы действительно находимся. Если б я внимательнее отнесся к тому, что происходило в моем сознании, когда я говорил: „поехать во Флоренцию, в Парму, в Пизу, в Венецию“, то, конечно, убедился бы, что видится мне совсем не город, а нечто столь же непохожее на все, что мне до сих пор было известно, и столь же очаровательное, как ни на что не похоже и очаровательно было бы для людей, вся жизнь которых протекала бы в зимних сумерках, неслыханное чудо: весеннее утро. Эти вымышленные, устойчивые, всегда одинаковые образы, наполняя мои ночи и дни, отличали эту пору моей жизни от предшествующих…»[15].