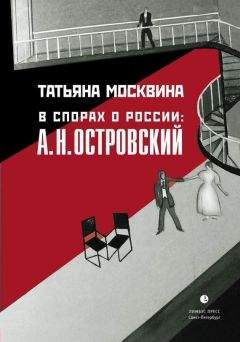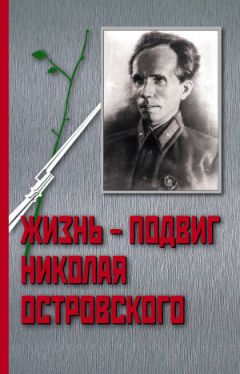«Не было ни гроша, да вдруг алтын» — пьеса, выросшая из творческих взаимоотношений Островского с миром народной философии и морали. Этот мир веками вырабатывал правила «житейской мудрости». Всякий, к примеру, знает, что копейка рубль бережет, а своя рубашка ближе к телу, но всякий ли понимает, что, приговаривая эти нехитрые сентенции, можно прожить разумную бережливую жизнь, а можно запросто грабить и тиранить своего ближнего, да еще утешаясь связью с «житейской мудростью»?
В «Не было ни гроша, да вдруг алтын» Островский как бы открыл шкатулку «области Божьего попущения» и выпустил ее обитателей на простор, поместив их рядом с откровенным злом, страданием, болью. Наши обитатели-обыватели проявили исключительную жизнеспособность. В отличие от несчастного семейства Крутицких Епишкины и Мигачевы живут жизнью не страдательной, а действительной — сочно, победительно, твердо, вольно, ничего не боясь. Но наступает момент, когда эта вольная, торжествующая, обаятельная жизнь становится хамской, жестокой, наглой, агрессивной, когда она будто кричит: «Посторонись! Зашибу!», когда лица обращаются в морды, а на добродушно-незамысловатой рожице появляется оскал самоупоения.
Вот Елеся Мигачев — мальчишка, птица вольная, на все руки мастер: и синиц ловить, и забор красить, и самовар принести, и любовный разговор затейливый сплесть; дух-проказник вольной, беззастенчивой жизни. Все ему удается легко, играючи, кажется, сама природа ему мирволит, любуясь Елесиной легкостью, умелостью, нетребовательностью. Много в Елесе развеселого фольклорного бурления, он такой же «глубокий родственник» Иванушки-дурачка, как Миша Бальзаминов. Но того все обижали, а этот обижает сам. Став женихом дочери богатого купца, выбивает пыль из сюртучка прямо в лицо бедной девушке Настеньке, приглашая на него, Елесю, полюбоваться. Незатейливый простачок, милый дурачок — любимец судьбы обижает сироту — в каких сказках такое мыслимо? А затем сироту обидят «всем миром». Самоупоение, глухота к чужим страданиям — вот главные черты этой стихии, это олицетворенная природа, неодухотворенная, безразличная к тем, кто страдает.
Событие, все разрешившее, уладившее всеобщую судьбу, не зависело ни от чьей воли. Елеся нашел деньги, случайно потерянные безумцем Крутицким, тот повесился, не в силах это пережить, — и вот бедная Настя стала богатой невестой, а Елеся женится на Ларисе Епишкиной. Случай царит и полновластно распоряжается судьбами людей.
Елеся и вся его компания не сомневаются, что случай есть чудо, Божье торжество, да чуть ли и не сам Всевышний, великодушно сообщающий, что он тут и все видит. «Маменька, невидимая рука, невидимая рука… Нам Бог послал… С неба, маменька, за правду нашу», — трепещет Елеся, найдя деньги. За какую такую правду на него с неба посыпались деньги, неизвестно.
Компания обывателей, Мигачевых-Епишкиных, со своим Богом в полном ладу. Иное дело — у Крутицких. «Господи, прости ему! — плачет Анна Крутицкая над мертвым мужем, — погубил он свою душу… За деньги, за проклятые деньги… Ведь всем умереть, да зачем же так! Что это, Господи?»
Оболочка у пьесы красочная, сказочная, а внутри — горькое сомнение Островского в коллективной нравственности, в житейской мудрости, в возможности опоры на «естественного», «земного», языческого бога. Чуть только дай ему полную волю, и нравственность эта и мудрость превратятся в торжествующее «Посторонись — зашибу!». «Живите, женитесь, плодитесь, ссорьтесь, миритесь, судитесь; а я буду глядеть на вас да радоваться!» — дружелюбно-приветственно говорит «обывателям» веселый Досужев в «Тяжелых днях». Сказать что-то подобное семейству Епишкиных-Мигачевых, таких же, в общем, обывателей, что и в «Тяжелых днях», у драматурга явно желания нет. «Что это, Господи» Анны Крутицкой — вот, скорее всего, итог этой пьесы. Островский, идя путем органического развития своей художественной мысли, постиг, что вольно плодящийся обыватель, наглухо замкнутый в своем хлеву, мало даст пищи для радости. Без развития, без противовеса, без иных людей — странников, учителей, подвижников, героев — он сделается зол, дик, нагл и страшен.
Островский всегда верил в то общее, основное, органическое, чем, по его мнению, держалась жизнь. В пьесах, написанных после «Не было ни гроша, да вдруг алтын» герои уже никогда не обопрутся на «общее», на коллективную нравственность, на жизнь «по обычаю». «Общему» больше веры нет. Одинокий поиск отдельных душ, решения, принятые исключительно по своей воле, на своей страх и риск, опора на свое понимание жизни и Бога станут их непременным уделом.
«Палящий бог, тебя всем миром славим!»
Написанная точно в едином порыве вдохновения весной 1873 года «Снегурочка», исключительное и феноменальное творение Островского, в момент своего появления на свет ошеломила, оттолкнула современников. Даже Некрасов, написавший поэму «Мороз, Красный нос», близкий к источникам вдохновения «Снегурочки», остался к ней холоден. Даже Римский-Корсаков полюбил пьесу значительно позднее, а тогда оценить ее, как он сам признавался, ему помешал круг идей 1860-х годов[116].
Критик начала века с удивлением отметит: «Для нас, научившихся любить и ценить это нежнейшее произведение русской поэзии, совершенно непонятен тот взрыв недовольства, который встретил появление “Снегурочки”»[117].
Не стоит думать, будто в 70-е годы XIX века русские люди были куда глупее, чем в начале века XX. Все поняли прекрасно, что берендеи — это взятый в сказочном измерении русский народ. Не замученная и угнетенная жертва самодурства, способная лишь сложить «песню, подобную стону», а веселый, счастливый, жизнерадостный народ под мудрым водительством доброго и умного царя и общей властью солнца. Такой образ народа не мог не оттолкнуть воспитанную Добролюбовым общественность. Но «светлое царство» берендеев, мир «Снегурочки» со временем победил и не победить не мог.
Островский вернул русскому народу его недосложенный, недописанный миф — космогонический миф, олицетворяющий смену времен года.
Царство берендеев, изобильное песнями и плясками, обрядами и расписными теремами, живущее в согласии с природой, создано в настроениях так называемого прароссианства (термин Даниила Андреева), жизнерадостного мировоззрения древних язычников-россиян. «Травчатые узоры на тканях и поставцах, — пишет Андреев, — столь же далеки от христианского мифа в его чистом виде, как жар-птица наших сказок, богатыри наших былин, архитектурные особенности наших теремов или стилизованные петушки и фантастические звери, украшавшие печи, прялки и коньки изб. Этот пласт образов восходит, конечно, к дохристианскому мироотношению, к зачаточной и так и не развившейся славянской мифологии»[118].
Неразвитость славянской мифологии можно увидеть хотя бы в том, что отдельные существующие в ней боги не связаны между собой никаким действием и не вступают ни в какие взаимоотношения. На ком женат Перун? Любвеобилен ли Даждьбог, подобно Аполлону, или нет? Есть ли дочери и сыновья у Макоши? Образы богов схематично намечены, функции их более или менее определены, характеры очерчены, но нет связующих историй, и, следовательно, эту мифологию действительно трудно назвать зрелой.
«Сколь благоговейным ни было бы субъективное отношение метаисторика к христианскому мифу, сколь высоко он ни расценивал бы роль этого последнего в культурной истории России, но вряд ли он сможет отделаться вполне от чувства горечи и сожаления, даже какой-то безотчетной обиды… ‹…› Он почувствует, что тем росткам исконно национального мироотношения, которые пытались все же проявить себя хотя бы в искусстве, было зябко и мучительно тесно»[119].
Творческая воля Островского обратилась к «зачаткам славянской мифологии» и «росткам исконно национального мироотношения», чтобы вырастить из них единый целостный миф прароссианства. Миф, в котором боги, полубоги и люди оказались связаны космогонической историей, опирающейся на особенное, заветное отношение русских к теплу и свету, которые в русском мире не даруются, а наступают после долгого ожидания.
«Довлела формула “Мир лежит во зле”, — пишет Андреев о судьбе прароссианства в христианское время. — И любовь к нему, детская жизнерадостность, солнечная веселость и непосредственность едва осмеливались обнаруживать свое существование в яркой раскраске утвари, в сказочно-игрушечном, я бы сказал, смеющемся, стиле изразцов или резьбы, в задних планах икон, где цветы, светила небесные и сказочные звери создают удивительный фон, излучающий трогательно-чистую, пантеистическую любовь к миру. Довлел монашеский аскетизм… ‹…› Соприкосновение духовности с физической стороной любви казалось кощунством; в брачную ночь образа плотно завешивались, ибо любовь, даже освященная таинством брака, оставалась грехом»[120].