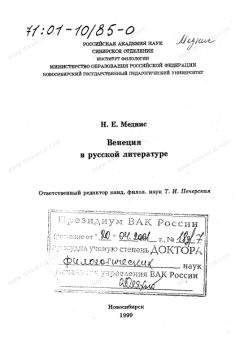о Другом как о зеркале —
Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем
нежность не соскрести.
(Там же)
Порой зеркала оказываются связаны с мотивом смерти, который и вне венецианского контекста традиционно сопрягается с магическим зеркалом, а иногда и с зеркалом обычным, но особым образом маркированным. Последнее входит в круг образов «Веницейской жизни» О. Мандельштама, где кипарисные носилки и кипарисные рамы зеркал, перекликаясь, рождают в тексте семантическое эхо:
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.
… Тяжелы твои, Венеция, уборы.
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.
Мандельштамовский образ стекла, ассоциативно связанный с образом зеркала во второй из приведенных выше строф, очень характерен для зеркального комплекса литературной венецианы. Всеобщность и острота ощущения этих ассоциативных связей — специфически русская черта мирового венецианского текста. Логические истоки данной ассоциации понятны. Они в значительной мере лежат в сфере венецианской эмпирики и указывают не столько на материальную соприродность стекла и зеркала, сколько на органичность стекла для внутреннего мира Венеции, на ее культурно-историческую связь с производством его в цехах Мурано, где кроме зеркал делались прекрасные люстры, посуда и т. д. Именно по этой причине в художественных текстах, так или иначе связанных с Венецией, рядом с образом зеркала часто возникают упоминания о венецианских люстрах, собирающиеся порой в отдельный значимый образ, как в романе Ю. Буйды «Ермо». Иногда люстра, сверкающая гора венецианского стекла, подобно зеркалу, оказывается способной замещать или знаково представлять цельный образ Венеции. Убедительным примером тому могут служить мемуары А. Шайкевича «Мост вздохов через Неву». Люстра, найденная автором в антикварной лавке северной столицы[120], является здесь своего рода реминисценцией из венецианского текста в тексте петербургском. Стеклянный ажур ее, как он описан в мемуарах, напоминает цветочные рамы венецианских зеркал: «Опаловые шкалики с ярко-голубым бордюром лежали наверху ящика, полузасыпанные опилками и соломой. Кое-где так же остро вырисовывались малиновые и оранжевые цветочки на изогнутых стеклянных стебельках. Несколько колечек дымчатой, стеклянной же цепи, словно прилипли к ней»[121].
С появлением люстры эмпирическое пространство Петербурга несколько оттесняется воображаемым венецианским топосом, и автор начинает существовать в двух пространствах сразу: «Вышел я из лавки восторженный и мерещились мне в серых, унылых домах Вознесенского проспекта ренессансные и готические фасады обрамляющих Большой канал венецианских дворцов»[122]. Наконец, когда люстра оказывается собранной, ее присутствие в кабинете преображает уже не только пространство, но и время, сопрягая российский ХХ век с годами Казановы: «…через неделю с потолка кабинета свешивалась грандиозная корзина цветов, волнисто и прихотливо закрученная, в которую асимметрично вонзались 24 шандала. Их обвивали нежно мерцавшие перламутровые цепи. Короткие белые фарфоровые свечи оставались неприметными под ярко-красными, изумрудными и желтыми цветами, которые придавали движение электрическим лампочкам… Возможно, что точно такая же люстра освещала Ридотто в те ночи, когда Казанова под ее сиянием рисковал своими червонцами и приникал к плечу русоволосой куртизанки»[123]. Так с появлением венецианского стекла Венеция утверждается в петербургском доме, внутренне преобразуя всех, соприкасающихся с ее миром.
Образ зеркально-стеклянного мира возникает и закрепляется в русской литературной венециане в начале ХХ века. Именно в это время метафора стеклянности в целом становится очень популярной. В первые годы столетия она еще не сформировалась, и стекло, к примеру, в ранних стихотворениях А. Блока — лишь предмет, его часть или материал, из которого предмет изготовлен. Но десятью годами позже в поэзии обнаруживается своего рода всплеск «стеклянности». У некоторых художников она становится одним из основных компонентов прозрачного и хрупкого поэтического мироустройства. В качестве характерного примера можно указать на лирику М. Кузмина:
Вина весеннего иголки
Я вновь принять душой готов, —
Ведь в каждой лужице — осколки
Стеклянно-алых облаков.
(«Вина весеннего иголки…», 1918)
В зрачках ваших — тихий Китеж
Стеклянно и странно жив.
(«Странничий вечер», 1921)
Загоризонтное светило
И звуков звучное отсутствие
Зеркальной зеленью пронзило
Остеклянелое предчувствие.
(«Белая ночь», 1921)
Стеклянно сердце и стеклянна грудь, —
Звенят от каждого прикосновенья…
(«Стеклянно сердце и стеклянна грудь…», 1921)
Примеров такого рода можно привести бесконечно много, из чего следует, что О. Мандельштам в «Веницейской жизни» продолжает развивать сложившийся уже в русской поэзии мотив стеклянности, но применительно к Венеции мотив этот получает у него особое звучание. «Стеклянные» образы и метафоры, проходя через весь текст стихотворения, создают подобный голограмме фантастический образ светло-прозрачного стеклянного города. Он, в отличие от образов Венеции, созданных другими поэтами, холодноват и статичен, но именно здесь в наиболее тесном соединении представлена неразрывная в общем облике Венеции связь стекла и зеркала. В этом смысле по отношению к целостному миру Венеции «Веницейская жизнь» является метонимией и гиперболой одновременно. Образ стекла-зеркала возникает у О. Мандельштама уже в первой строфе:
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.
Далее он интегративно включается в образ зеркал в кипарисных рамах, затем просвечивает в типично венецианском образе стеклянного цветка и в последней строфе приобретает дополнительные акценты в столкновении двух зеркал: черного ночного зеркала воды —
Черный Веспер в зеркале мерцает —
и имплицитно присутствующего зеркала, в которое смотрится Сусанна на картине Тинторетто «Сусанна и старцы»:
И Сусанна старцев ждать должна!
За семь лет до стихотворения О. Мандельштама, в 1913 году, не образ, но знак стеклянности обнаруживается в первых стихах «Венеции» Б. Пастернака:
Я был разбужен спозаранку
Бряцаньем мутного стекла.
В редакции 1928 года эта деталь бытовизируется, и потому связь ее с образом зеркала кажется ослабленной, хотя в действительности здесь происходит обратное. В тексте 1913 года упоминание о стекле не поддержано мотивом зеркальности, тогда как стихотворение 1928 года начинается с экспликации стекла и завершается метафорическим образом водного зеркала, создавая своего рода стеклянно-зеркальную раму текста.
Порой в тех или иных произведениях, проекционно ориентированных на Венецию, проявляется четкая семантическая маркированность стеклянного мира с ясно обозначенной ценностной прикрепленностью, как, к примеру, в «Городе будущего» (1920) В. Хлебникова, где город предстает как некое утопическое порождение, геометризованный образ будущей жизни:
Здесь площади из горниц, в один слой,
Стеклянною страницею повисли,
Здесь камню сказано «долой»,
Когда пришли за властью мысли.
Прямоугольники, чурбаны из стекла,
Шары, углов, полей полет,
Прозрачные курганы, где легла
Толпа прозрачно-чистых сот…
Мир этот полностью проницаем для взгляда и благодаря этому зрительно широк, но в то же время внутренне разграничен и малоподвижен. Образ раскрытой стеклянно-зеркальной книги как сквозной метафоры города указывает на его развернутость вовне и дематериализацию в путанице многочисленных отражений:
Дворцы-страницы, дворцы-книги,
Стеклянные развернутые книги,
Весь город — лист зеркальных окон…
… Ты мечешь в даль стеклянный дол,
Разрез страниц стеклянного объема
Широкой книгой открывал.
И здесь на вал окутал вал прозрачного холста,
Над полом громоздил устало пол,
Здесь речи лил сквозь львиные уста
И рос, как множество зеркального излома.
И. П. Смирнов по поводу данного стихотворения замечает: «В. Хлебников знакомит нас в утопическом стихотворении „Город будущего“ со всемирной Венецией, страной зеркал»[124].