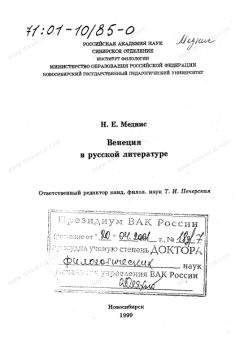Дважды герой, преодолевая магию двоения, разбивает зеркало, что, вопреки поверьям, не влечет за собой его смерти. Напротив, это оборачивается соединением с самим собой и избавлением от разрушающего сознание ощущения опасности. Манипуляции с зеркалами, описанные в последней главе повести, снова возвращают к вопросу о природе событий, значения которых вновь двоятся, но теперь уже смещаясь к полюсу фантастического, а не психологического. В результате история, связанная с венецианским зеркалом, обретает статус возможной, а само венецианское зеркало возвращает себе изначальные магические признаки. В числе последних есть и тот, который роднит два венецианских зеркала, представленных в русской литературе 20-х годов: оба они порождают у отраженного в них субъекта всплеск страсти, которая либо разрушает личность и привычный уклад жизни героя, как у А. В. Чаянова, либо может разрушить, как у П. Муратова.
Зеркала в романе Ю. Буйды «Ермо»
Зеркала и зеркальные метафоры в романе. — Цельность и раздельность: проблема зеркального двойника. — Взаимопроекции отражений. — Встреча в зеркале с самим собой. — Уход в Зазеркалье
Роман Ю. Буйды «Ермо» наполнен зеркалами и насыщен зеркальностью, которая становится в нем структурным узлом текста. При этом Ю. Буйда, словно опасаясь обвинения в расхожести зеркальных образов, в самом начале романа иронично оговаривается устами своего героя: «…как багаж коммивояжера невозможно представить без зубной щетки и дюжины презервативов, так современную литературу — без зеркал, шахмат, лабиринтов, часов и сновидений» (7). Действительно, роман о писателе практически немыслим без явно или скрыто звучащей в нем темы зеркальности, по поводу чего герой «Ермо» справедливо замечает: «Говорить о двойничестве и зеркалах… значит говорить о художественном творчестве и художнике…» (39). Тем более невозможно представить себе без зеркал «венецианский» роман, каковым по духу, а в значительной мере и по месту действия, является произведение Ю. Буйды.
В романе «Ермо» мы ни разу не встречаемся с прямым определением венецианское зеркало, но логично предположить, что многочисленные старинные зеркала в палаццо графа Джанкарло ди Сансеверино и есть именно венецианские как по месту их изготовления, так и по месту существования.
Зеркала в романе порождают множество метафорических модификаций, основанных на общей для них способности отражать предметы и явления внешнего мира, либо образы мира внутреннего. Это зеркало памяти, сна, воображения, это окно, фотография, протрет как зеркало, зеркало топоса, зеркало текста. Многие из этих метафор традиционны для разных видов искусства, но в поэтической системе «Ермо», которую можно именовать поэтикой отражений, и в венецианском топосе романа они приобретают специфические свойства и складываются в сложное сплетение взаимопроекций. Последнее Ю. Буйда образно обозначил цитатой из «Поэмы без героя» А. Ахматовой — «Только зеркало зеркалу снится».
Замечание П. Муратова — «Маска, свеча и зеркало — вот образ Венеции XVIII века» (25) — вполне приложимо к роману «Ермо», несмотря на существенно более позднее время действия в нем. Маска (в широком смысле слова), свеча и зеркало выступают здесь в роли образно-мотивных центров, особенно маска и зеркало, формирующие и определяющие жизнь героев в мире теней и иллюзий, в мире Als Ob. Карнавальность и зеркальность, пронизывающие пластику романа, организуют и его читательское восприятие. «Иногда между романом и читателем, — пишет Ю. Буйда, — возникает вибрирующая связь благодаря необъяснимым перекличкам, многочисленным эхо, неожиданным отражениям — лица в лице, реальности в вымысле и наоборот, слова в слове…» (9). Такая установка автора делает текст романа практически не поддающимся сегментации, ибо его внутренние границы размыты, все сопряжено со всем, все во всем отсвечивает[137]. Однако задачи анализа требуют выхода из континуального поля художественного текста в дискретное поле исследования, поэтому в соответствии с нашей темой мы будем говорить в основном о собственно зеркалах в романе «Ермо».
Сразу следует отметить, что в области зеркальности Ю. Буйда стремится обозначить не только производное, но и корни его. Как известно, правильная симметрия изначально служила знаком равновесия составных миропорядка. Именно поэтому мифологический мир тяготеет к различным формам симметрического удвоения. Согласно платоновскому мифу, приведенному в романе «Ермо», люди первоначально «были округлы, четвероруки и четвероноги, пока Зевс не разделил их, как режут яйцо волоском» (39). Для Платона эта первичная округлость человека была моментом принципиальным, ибо в системе подобий форма, наделенная круговой симметрией, указывала на сходство и связь со Вселенной. По Платону, главная часть человеческого тела отнюдь не случайно сохраняет сфероидность формы, символизирующую связь с Целостностью. «Итак, боги, подражая очертаниям Вселенной, со всех сторон округлой, — пишет он в „Тимее“, — включили оба божественных круговращения в сфероидное тело, то самое, которое мы ныне именуем головой и которое являет собою божественную нашу часть, владычествующую над остальным человеком»[138].
В «Пире» Аристофан объясняет причину божественного вмешательства в природу человека тем, что Зевс разгневался на людей за гордыню и решил наказать их. Следовательно, разрушение первоначальной целостности, выраженной в симметрической форме, в истоках своих связано с негативной семантикой, и дабы преодолеть ее, разрезанные половинки, как пишет, следуя логике мифа, Ю. Буйда, «устремились друг к дружке — так возникло любовное влечение, имеющее целью возвращение к единству, целостности, исцелению человека» (39). В этом контексте отражение в зеркале, временно возвращающее человека в систему симметрии, можно рассматривать как возможность лицезреть своего отъединенного двойника. При этом эффект отъединенности усиливается благодаря тому, что, по точному замечанию Ю. М. Лотмана, «отраженный образ вещи вырван из естественных для нее практических связей (пространственных, контекстных, целевых и прочих) и поэтому легко может быть включен в моделирующие связи человеческого сознания»[139]. В сущности, то же самое можно сказать и об отраженном в зеркале субъекте, что и обнаруживается в романе «Ермо». Моделирующим сознанием здесь является и сознание автора, выступающего в роли активного супервизора по отношению ко всем героям и событиям романа, и сознание главного героя, тоже писателя, Джорджа Ермо-Николаева. Текст романа построен так, что оба эти сознания смотрятся друг в друга, равно как сознания автора и читателя. Все зеркала, представленные в их вещной сущности, включены в романе в зоны сознания трех героев — Ермо, Лиз и Джанкарло ди Сансеверино. Причем сознание Ермо, творчески перерабатывая первичное бытие, в значительной степени объемлет два последующих. Прочие зеркала не даются Ю. Буйдой предметно, а вводятся в роман лишь через фиксацию отношения к ним того или иного персонажа. Так связан с зеркалами, к примеру, образ матери Ермо, которая панически боялась их, ибо «цыганка предсказала, что в зеркале ей суждено встретиться со своей смертью» (10).
Мотив зеркала и мотив смерти в романе тесно переплетаются, и речь здесь идет не только о смерти физической, но и смерти личностной, которая постигла мужа Лиз графа ди Сансеверино. Согласно сюжету романа, Джанкарло ди Сансеверино, бывший фашист, рыцарь и романтик, спасший от смерти в газовых камерах сотни евреев, предпочтя смерти убежище[140], уходит от мира и одновременно от самого себя. Он стремится перевоплотиться до неузнаваемости, меняя перед зеркалом маски, парики, накладные усы и бороды, «…он упорно менял привычки, выстраивал воспоминания, — он во что бы то ни стало решил стать другим» (49). Зеркало в данном случае дарит герою единственную возможность общения с другим, воплощенным в форме зеркальной самоотъединенности.
Меняющийся облик зеркального другого первоначально соотносится в сознании Джанкарло со своей природной личностью, но длинная череда изменений приводит к потере изначального Я и растворению героя в своих отражениях. Его сознание оказывается подчиненным множеству его зеркальных двойников, образы которых, тщательно отработанные перед зеркалом, заполняют созданный им самим иллюзорный мир. Постепенно Джанкарло, меняя собственный облик, уходит в лабиринт Зазеркалья раньше всех других героев, и это движение для него почти необратимо: «Походка, голос, манера причесываться перед зеркалом и прикуривать, даже словарный запас и стилистика речи — все подвергалось изменениям. Рано или поздно он должен был запутаться, заплутать, потеряться среди масок. Покинув свое место, он брел по лабиринту превращений, заглядывая то в одну, то в другую комнату, открывая дверь за дверью, — быть может, зная, что назад пути нет, а когда нужно будет вернуться к себе, — он просто не вспомнит дороги домой» (50). Зеркало здесь выступает как активная трансформирующая субстанция, ибо каждый новый облик Джанкарло, отражаясь в зеркале-вещи, утверждается затем в зеркале его психики, в чем-то неизбежно меняя ее. В итоге превращений герой и зеркало функционально уподобляются друг другу, порождая исходно ориентированную на умножение модель двух зеркал, обращенных одно к другому. И по мере того, как зеркальный мир, крайне ограниченный, вырезанный рамой из полной, живой человеческой жизни, утверждается в сознании графа ди Сансеверино, сам он все глубже погружается в парное отражение, уходя в бесконечность зеркального пространства. «Только зеркало зеркалу снится…»