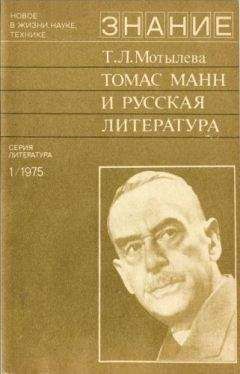Проза, великая русская проза… Прежде чем идти дальше, позволим себе небольшое отступление. Литература XIX века продиралась в России сквозь многочисленные цензурные рогатки; больше всего доставалось стихам (вспомним вольные стихотворения Пушкина, Лермонтова, Дениса Давыдова, Некрасова), а также драматургии (боязнь эффекта "публичного действа" во многом определила нелегкую судьбу "Бориса Годунова", "Горя от ума"). Еще труднее была участь передовой публицистики, журналистики; Белинский не раз советовал друзьям не "умствовать" в статьях, а чаще прибегать к "сказочкам", то есть к художественной прозе. Опытный критик видел, чувствовал, что проза "проходит" сравнительно легче. В самом деле, и в ту пору, и позже все главные произведения большой прозы все же увидели свет; порою со скрипом, с некоторыми потерями — но выходили. В свое время явились к читателям "Герой нашего времени", "Мертвые души", "Севастопольские рассказы", "Война и мир"; мы, конечно, не можем судить о сочинениях, вообще не написанных из‑за уверенности, что они не выйдут, — но с прозой, повторяем, было все‑таки "полегче" .
Легче всем, но только не Герцену. Он сам понимал, что "сказочки" проходят быстрее, и в свое время напечатал в России такие довольно нашумевшие прозаические сочинения, как "Сорока–воровка", "Доктор Крупов": прогрессивно, живо… но, видит бог, — не большая литература! Куда сильнее у Искандера получались как раз статьи, почти превращавшиеся в художественную прозу. Белинский первый заметил, что тут талант, ни на что не похожий: у обычных прозаиков поэзия — через ум; у Герцена же — ум через поэзию.
При такой манере письма лучшие прозаические тексты Искандера имели минимум шансов на прохождение именно потому, что были своеобразным ярким гибридом прозы и публицистики.
В России "Былое и Думы" он не смог бы написать; поэтому, перечисляя причины, подвигнувшие Герцена на эмиграцию, думаем, что на первое место надо поставить своеобразие его таланта, можно сказать, "предощущение" будущей великой книги: автор еще не ведает, что ее напишет, — но уже неодолимо влечется, приближается к ней.
"Былое и Думы" — единственное великое произведение русской прозы XIX века, которое могло быть написано и было написано без всяких цензурных рамок, за границей, — и оттуда стремительно двинулось к родным читателям.
4. "ВОТ ВАМ И АЛГВАЗИЛЫ…"
Всякое произведение так или иначе связано с современным ему внешним миром, но трудно отыскать сочинение, более тесно и многосложно сплетенное с общественной, социально–политической обстановкой, чем "Былое и Думы": что писать, в каком порядке печатать, о чем умолчать, какие имена законспирировать, еще и еще раз понять — нужно ли это, именно это, пробуждающейся России?
Герцен чувствовал за тысячи верст и писал в 1855 году: "Россия сильно потрясена последними событиями. Что бы ни было, она не может возвратиться к застою" (XII, 265).
Правда, иногда на миг приходило сомнение: "Все в движении, все потрясено, натянуто… И чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном?
Лучше пусть погибнет Россия!
Но этого не будет. Нам здесь вдали слышна другая жизнь, и в России потянуло весенним воздухом" (ПЗ I, 8).
Только самый горячий, лучший из патриотов, к тому же человек абсолютно свободный и независимый, мог написать и напечатать (пусть тут же опровергая сам себя): "Лучше пусть погибнет Россия!"
Если же самое страшное случится, то незачем ведь вспоминать, писать, продолжать…
Россия ответила. Отсылая читателя за подробностями к нашей книге "Тайные корреспонденты "Полярной звезды"", восстановим канву событий.
Герцен обещал издать первую книгу "Полярной звезды" к годовщине казни декабристов, 13(25) июля 1855 года, однако не успел, и альманах выходит в конце августа. Последовательно набирая в своей типографии статью за статьей, оттиск за оттиском, Искандер уже готов был отдать том в переплет, когда 16 августа 1855 года в Лондоне появился старинный московский приятель, человек круга Грановского, врач Павел Лукич Пикулин. Он привез очень важное письмо московских друзей, а также — давно ожидаемый список запрещенных стихотворений Пушкина, Лермонтова и других поэтов. Буквально в последнюю минуту Герцен успел прибавить к готовому тому несколько строк: "Книжка наша была уже отпечатана, когда мы получили тетрадь стихотворений ПУШКИНА, ЛЕРМОНТОВА и ПОЛЕЖАЕВА, часть их поместим в следующей книжке. Мы не знаем меры благодарности за эту присылку… наконец‑то! — наконец‑то!" (ПЗ I, 232).
А ведь это было эхо той, высказанной год назад, печатной просьбы прислать стихи—эхо первой книжки "Былого и Дум", "Тюрьмы и ссылки".
Прибытие стихов, дружеский отзыв москвичей — тот голос родины, которого не хватало среди гула европейского одобрения; к тому же героический Пикулин (не забудем, что Крымская война еще продолжалась, что именно в эти месяцы шли последние бои за Севастополь), — он через несколько дней отправляется сложными, окольными путями, маскируясь, домой, в Москву. Точно известно, что путешественник прихватил для "лучших читателей" только что, буквально на глазах изготовленный том "Полярной звезды", где в главах "Былого и Дум" о них, об этих читателях, говорится; где мертвые уже названы, а живые зашифрованы, но сколь узнаваемы!
Если же московские друзья еще не располагали к этому сроку более ранним томом ("Тюрьма и ссылка"), то, конечно же, Пикулин прихватил и его.
Герцен страшно волновался, как сойдет поездка "Венского" (именно так в дружеских письмах он зашифровал имя смелого доктора, явившегося в Лондон из Москвы через Вену); Искандер переживал — как бы того не перехватили "алгвазилы": даже российских жандармов и полицейских ради конспирации приходилось именовать как их испанских коллег. Несколько раз он признается Рейхель, что "так сердце и замирает, иногда ночью вздумаю и озябну" (XXV, 300): ведь Венскому в случае неудачи — прямой путь на каторгу.
И вот из Москвы пишут Марии Рейхель, а она извещает Герцена: все благополучно, все дошло и все рады; Герцен отвечает: "Ваше письмо… произвело… радость несказанную. Итак, сошло с рук. Вот вам и алгвазилы" (XXV, 301).
Так "проскочила" с необыкновенной для тех времен скоростью, без сомнения, самая первая книжка первой "Полярной звезды". Ее успеет прочесть Грановский буквально накануне своей смерти (умрет 4 октября 1855 года на руках друга–врача Павла Пикулина); прочтут все другие герои "Былого и Дум", которые окажутся в тот момент в Москве: Кетчер, Корш, Кавелин, Астраковы… До Огарева в Поволжье дотянуться нелегко, но, кажется, довольно скоро и к нему отправилась верная оказия; а тут собрался в сибирскую командировку молодой друг герценовских московских приятелей Евгений Иванович Якушкин. Не беремся сказать, прихватил ли он в путь тот самый том или уж добыл другой, снял копию, — но взял, повез книжку с декабристским названием, с декабристскими силуэтами; повез в Сибирь, чтобы прочитал еще не возвращенный оттуда отец–декабрист Иван Дмитриевич Якушкин, чтобы прочитали Пущин, Матвей Муравьев–Апостол, Волконские; и уж Якушкин–старший "с великим чувством" благодарит Искандера, кое‑что уточняет насчет Чаадаева и сам вместе с друзьями собирается верным путем доставить для Вольной типографии важные материалы.
Вскоре еще и еще экземпляры первой "Полярной звезды", с "Былым и Думами" и другими сочинениями, проникают в столицы и провинцию. И некий молодой человек находит способ переправить в Лондон письмо, начинающееся словами: "Милостивый государь! Ваша Полярная звезда показалась на петербуржском горизонте, и мы приветствуем ее, как некогда Вифлеемские пастыри приветствовали ту светлую звезду, которая загорелась над колыбелью рождающейся свободы" (ПЗ II, 243); Герцен же под новый 1856 год получил это послание и позже ответил: "Я рассказывал в моих воспоминаниях, как станционный смотритель между Вяткой и Нижним, которого я угощал особым half‑and‑half [223], прощаясь со мной, повторял: "Вот вы и меня сделали с новым годом!" Позвольте мне дружески, искренно от всей души сказать вам эти слова" (ПЗ II, 247).
В эту пору уж принесена и первая жертва: вольнослушатель Московского университета М. Ф. Эссен, у которого обнаружили герценовское "объявление о "Полярной звезде", отправлен рядовым под строжайший надзор; а испуганный министр юстиции граф В. Н. Панин со страху полагает, что "Полярной звезды" в одном Петербурге распространено тысяч до ста".
Иная ошибка интереснее реального факта: тираж "Полярной звезды", по–видимому, никогда не превышал тысячи пятисот экземпляров, однако эффект был таков, что власти множили на десять и на сто…
Тут попутно заметим, что, зная тираж "Полярной звезды", прибавляя к нему вскоре последовавшие вторые ее издания, приплюсовывая тиражи будущих отдельных прижизненных изданий герценовских мемуаров, — все равно получаем числа, по нашим сегодняшним понятиям, мизерные, "академические". В общем можно считать, что при жизни Герцена его главная книга выходила в свет примерно пятью тысячами экземпляров (может быть, чуть–чуть больше!). Сегодняшние миллионные тиражи — это "потомки" тех главных, нескольких тысяч. При малой российской грамотности в середине XIX века (примерно 6% населения) того количества было достаточно, но дело, конечно, не в числе, а — в "умении"…