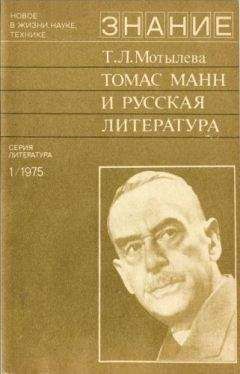Иная ошибка интереснее реального факта: тираж "Полярной звезды", по–видимому, никогда не превышал тысячи пятисот экземпляров, однако эффект был таков, что власти множили на десять и на сто…
Тут попутно заметим, что, зная тираж "Полярной звезды", прибавляя к нему вскоре последовавшие вторые ее издания, приплюсовывая тиражи будущих отдельных прижизненных изданий герценовских мемуаров, — все равно получаем числа, по нашим сегодняшним понятиям, мизерные, "академические". В общем можно считать, что при жизни Герцена его главная книга выходила в свет примерно пятью тысячами экземпляров (может быть, чуть–чуть больше!). Сегодняшние миллионные тиражи — это "потомки" тех главных, нескольких тысяч. При малой российской грамотности в середине XIX века (примерно 6% населения) того количества было достаточно, но дело, конечно, не в числе, а — в "умении"…
Выходит (таков сравнительный опыт XIX-XX веков), можно издаваться миллионами экземпляров, принадлежа к так называемой массовой культуре, и остаться "бабочками–однодневками", тут же забытыми; но достаточно появиться хорошей книге в количестве всего лишь 690 "штук" (Радищев), 1200 (большинство сочинений Пушкина), 1500—5000 экземпляров (Герцен), чтобы навсегда остаться в литературе и истории…
Успех первой "Полярной звезды" и, конечно же, главного в ней материала, 117 страниц "Былого и Дум", требовал продолжения.
Снова и снова повторим, что читателю конца XX века, может быть, и дела нет до этих горячих обстоятельств 1855—1856 годов, он их и знать не знает — а все равно они в книге есть: пусть незримо, но вливаются в повествование, придавая особенную силу герценовским надеждам, печалям и радостям.
Так мгновенное, бытовое, историческое переходит в художественное, вечное…
"(31 марта 1856 года). Теперь только идите, не стойте на одном месте, что будет, как будет, трудно сказать, никто не знает, но толчок дан, лед тронулся. Двиньтесь вперед… вы сами удивитесь, как потом будет легко идти" (ПЗ II, 3).
Название нашей главки и первые строки — из передовой статьи, написанной Герценом ко второму тому "Полярной звезды".
В апреле 1856 года, через восемь месяцев после первой, выходит в свет вторая книга: 288 страниц, из них около 190 из‑под пера Герцена. В книге восемь работ, 23 стихотворения, 11 редакционных примечаний.
Главный материал, занимающий 164 страницы, — это опять же "Былое и Думы" и "Западные арабески" (которые позже также войдут в состав герценовских воспоминаний).
1856 год, о котором Лев Толстой сказал, что тот, кто его не видел, "не видел ничего": пробуждение, надежда, ожидание отмены крепостного права, других коренных реформ, прекращение Крымской войны, ослабление цензуры — и в эту‑то разогревающуюся атмосферу врезается еще один том "Полярной звезды".
После передовой следуют впервые печатаемые 13 стихотворений Пушкина и сверх того стихи Рылеева, Лермонтова, Аполлона Григорьева и других авторов: материал, судя по положению в книге, был набран раньше всего, и это понятно, ведь стихи привезены в августе 1855 года доктором Пикулиным.
Их просила "Тюрьма и ссылка", их анонсировала первая "Полярная звезда", и вот — публикует вторая.
Прекрасное естественное вступление к "Былому и Думам", главы которого печатаются вслед за тем.
Л. Н. Толстой(4 ноября 1856 г.): "Дочел "Полярную звезду". Очень хорошо".
Герцен — Тургеневу(2 марта 1857 г.): "Если ему (Толстому. — Н. Э.) понравились мои "Записки", то я всем здесь прочту выпущенную главу о Вятке и главу о Грановском и Кетчере" (XXVI, 77).
Н. А. Добролюбов:"…Полетел я к восточным студентам, где ожидала меня вторая книжка "Полярной звезды". <…> Разумеется, я с ними толковал весьма мало, потому что передо мною был собеседник поинтереснее. С десяти часов начал я чтение и не прерывал его до пяти утра… Закрывши книгу, не скоро еще заснул я… Много тяжелых, грустных, но гордых мыслей бродило в голове…"
"Полярная звезда" — это прежде всего, больше всего "Былое и Думы": теперь их будут ждать, гадать о новых или старых, но "скрытых" сюжетах — точно так, как люди каждого современного поколения с нетерпением ждут очередной журнальной книжки с главной вещью, торопятся узнать, какое же продолжение "последует"!
Нужно ли доказывать, что Россия середины 1850–х не бедна талантами: журналами и книгами выходят к читателю Гончаров, Тургенев, молодой Лев Толстой, Некрасов, Чернышевский… Но "Былое и Думы" — не просто "звезда первой величины": единственные совершенно свободные, никому, кроме автора, не подчиненные тома, и поэтому особенные, неповторимые, полностью завладевшие тысячами лучших читателей.
На этот, третий раз, в 1856 году, Герцен дарит им первую часть своих воспоминаний, ту самую, которую не решался выдать несколько лет; первую часть со слов: "Вера Артамоновна, ну расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву…".
Главы личные, интимные, — и, понятно, Герцен снова не оставляет их без специального предисловия, которое опять же потом, в окончательном тексте книги, исчезнет. Снова автор объясняет читателям, что если бы не лестные отзывы в западной прессе, то он не решился бы; впрочем, к успеху он относит и выпад реакционного Morning Post, "который разбранил меня и советовал закрыть русскую типографию, если я хочу пользоваться уважением (кого? — их? — Нисколько не хочу)".
Далее Искандер объясняет: "В этой части мне приходилось больше говорить о себе, нежели в напечатанных, и не только о себе, но и о семейных делах. Это вещь трудная — не сама по себе, а потому, что по дороге невольно наталкиваешься на предрассудки, окружающие забором семейный очаг. Я не коснулся грубо ни одного воспоминания, не оскорбил ни одного истинного чувства, но я не хотел пожертвовать интересом, который имеет жизнь, искренно рассказанная, — целомудренной лжи и коварному умалчиванию" (ПЗ II, 44).
Главы "Былого и Дум" о детстве и юности героя известны современному читателю лучше других, но мы присутствуем при том моменте, когда они являются на свет первый, неповторимый раз.
Перелистаем же знакомые страницы, положив рядом старинную вторую книгу "Полярной звезды" и самое современное издание "Былого и Дум".
Никакого посвящения Огареву, понятно, еще нет: оттиск новых глав "Былого и Дум", согласно помете самого автора, был получен им из типографии 1 октября 1855 года (снова напомним: "Полярная звезда" набиралась неторопливо, материал за материалом). От Огарева два месяца назад, конспиративными путями, дошло письмо: "В нас не было перемены; любовь к той, которой нет, и память о том, что "мы в жизнь вошли вдвоем", так же живы, как были и будут". Герцен отвечал: "А ты, друг… — моя сердечная, страстная дружба Воробьевых гор, Кунцево 1829 года с тобой. — Я жду тебя!" (XXV, 290).
Огарев хлопочет о "заграничном лечении", но разрешат ли поднадзорному?
Ник, Огарев, мы помним, — главный герой начальных глав; но как же их печатать, не называя друга? Можем только догадываться, какие мучения испытывал Искандер, изыскивая лучший способ составления этого "типографского письма" в Россию…
Вначале эпиграф — восемь стихотворных строк. Автор не указан — в скобках лишь название стихотворного произведения "Юмор": несколько десятков человек на родине вспомнят, что это юношеская поэма Николая Огарева.
Еще через несколько страниц в кратком примечании Герцен упоминает о своем сводном брате (не называя Егора Ивановича Герцена по имени) и прибавляет: "Глава, в которой я говорю о его уединенном печальном существовании, выпущена мною, я не хочу печатать ее без его согласия" (ПЗ II, 55).
Выходит, глава о брате существовала, но так никогда и не появилась в печати. Лишь через 97 лет, в 1953 году, увидел свет чудом сохранившийся в Праге отрывок из нее (он опубликован в герценовском 61–м томе "Литературного наследства").
Как знать, не лежит ли где‑либо под спудом эта пропущенная глава, а может, и другие…
Но вот приближаются страницы дружбы, сцена на Воробьевых горах. Она почти такая же, какой мы ее знаем сегодня, только вместо Ника, как всегда, Н. и еще одно любопытное отличие. В окончательном тексте (очевидно, и в рукописи Герцена) было: "…постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и вдруг, обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу" (VIII, 81).
В "Полярной звезде" несколько иначе: "Молча стояли мы долго, и вдруг, взявши друг друга за руку, мы тут, в виду всей Москвы, обрекли себя на борьбу".
Инстинкт опасности подсказывал Герцену, что, сказав "слишком сильно", употребив оборот "пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу", он делает поднадзорного Огарева как бы более опасным для властей человеком…