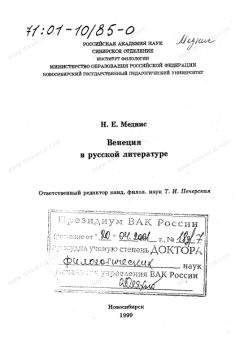Непосредственно перед приведенной выше записью («Всепримирение идей. Беппо, камни») в набросках к роману «Подросток» идет такой текст: «Если и прейдет, то настанет великое. Вот это бы я и хотел им выразить, но пока меня никто понять не мог. И я скитался один. Потому что будущее мира угадал лишь сердцем русским, т. е. русского высшего культурного типа… Они тогда сожгли Тюильри. И после Тюильри — всепримирение ид<ей>. Ибо, вернее, русская культурная мысль есть всепримирение идей» [XVI; 432]. В каноническом тексте «Подростка» в мотив Венеция — «Беппо» — всепримирение идей вплетается образ золотого века и связанный с ним лейтмотив косых лучей заходящего солнца: «Был уже полный вечер; в окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался пук косых лучей и обливал меня светом. И вот, друг мой, и вот — это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества! Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и без того знал, что все прейдет, весь лик европейского старого мира — рано ли, поздно ли; но я, как русский европеец, не мог допустить того. Да, они только что сожгли тогда Тюильри… О, не беспокойся, я знаю, что это было „логично“, и слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но, как носитель высшей русской культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей» [XIII; 375].
Сожжение Тюильри при частом упоминании также обнаруживает у Достоевского черты сквозного мотива, как правило, соседствующего с упоминаниями о Венеции и «Беппо» и обретающего по отношению к последним статус взаимозамещаемого. Связь названных выше мотивов зафиксирована и в тех набросках к роману, где мотив косых лучей вводится через имя Клода Лоррена, картину которого «Асис и Галатея», так поразившую писателя необычностью своего светового колорита, не раз упоминал Достоевский:
«Европа нам в 200 лет дорога. Русский дворянин не может без миров<ого> горя, и я страдал миров<ой> горестью.
Беппо.
— Ведь вы перед этими мужами.
Клод Лоррен. Закатывающееся солнце» [XVI; 416];
«Беппо. Перед этими мужами Клод Лоррен» [XVI; 417]; «Клод Лоррен и описание грусти. Я знал, что это должно погибнуть. Европа стала нашим отечеством. Я западник. Беппо, Венеция…» [XVI; 417]; «Байрон, Беппо, Венеция, Тюильри. Верна точка. Я бродил грустно. Прощался с Европой. Я не верю ни во что новое. — Ни во что? — О, я верю в экономическую ломку, в очаг, но ни во что другое. Я последний могикан. Тюильри. Ведь вы перед этими мужами. Мы, прежние русские, скитались, молились, как Макар Иванович, странствовали.
Клод Лоррен. Начало европейского человечества» [XVI;425]. В этот контекст естественным образом вплетается и мотив золотого века: «Удивление. Приглядка. За границей Венеция. Тогда взяли Тюильри. Я хочу тоже стоять твердо, верить, ничему не верю. Прощался с Европой. Картина. Золотой век» [XVI; 419]; «Для нас заграница — это камни, ведь вы перед этими мужами — Тюильри — Золотой век» [XVI; 425]. Сплетаясь, все эти мотивы активизируют друг друга и включают в свою вязь очень значимые образы. Так, в двух предпоследних заметках сразу за приведенным текстом идет слово «мама». Очевидна связь этих мотивов с образом Версилова, менее очевидна, но очень значима — с образом Макара Ивановича Долгорукого. В той или иной степени они высвечивают и другие образы, открыто с ними не связанные, и не только в романе «Подросток». В романе «Братья Карамазовы» Федор Павлович, упоминая в разговоре с Иваном о его намерении поехать в Европу, замечает: «Куда ты теперь, в Венецию? Не развалится твоя Венеция в два-то дня» (XIV; 253).
Таким образом, структуросоздающая роль обрисованного мотивного поля очень велика. Внутренняя же структура его такова, что венецианские мотивы у Достоевского выступают в нем как фоновые по отношению к парным российским или универсальным мотивам.
Венеция в прозе Иосифа Бродского («Набережная неисцелимых» и «Watermark»)
Соотношение текстов «Набережной неисцелимых» и «Watermark». — Венеция И. Бродского как явление онтологическое. — Видение красоты. — Венецианская «фауна». — Проявления филогенеза в венецианском мире. — Соприродность воды и Венеции
«Набережная неисцелимых» и «Watermark» помечены у И. Бродского одним, 1989-м, годом, и тексты их почти идентичны. Однако, судя по небольшим добавлениям, которые есть в «Watermark», эта книга появилась вслед за «Набережной неисцелимых». Добавлены в ней всего три главы, отсутствовавшие в первом цикле венецианских эссе, — 13, 14 и 28-я. Кроме того, кое-где у глав смещаются границы. Так, 9-я глава «Watermark» соединяет в себе 9-ю и 10-ю главы «Набережной неисцелимых». Есть незначительные различия и в отдельных фразах, но общая концепция цикла не меняется, и образ Венеции в обоих случаях сохраняет одни и те же очертания.
История создания первой версии книги житейски обыденна. На пресс-конференции в Финляндии в 1995 году, отвечая на вопрос журналиста о том, какие импульсы обусловили появление венецианских эссе, И. Бродский сказал: «Исходный импульс был простой. В Венеции существует организация, которая называется „Консорцио Венеция Нуова“. Она занимается предохранением Венеции от наводнений. Лет шесть-семь назад люди из этой организации попросили меня написать для них эссе о Венеции. Никаких ограничений, ни в смысле содержания, ни в смысле объема, мне поставлено не было. Единственное ограничение, которое существовало, — сроки: мне было отпущено два месяца. Они сказали, что заплатят деньги. Это и было импульсом. У меня было два месяца, я написал эту книжку. К сожалению, мне пришлось остановиться тогда, когда срок истек. Я бы с удовольствием писал ее и по сей день»[255].
Как видно из ответа, импульсов все-таки было два: один — внешний, прагматический (и поэт не собирается его преуменьшать и прятать), второй — внутренний, обусловленный глубоким и сильным чувством, которое И. Бродский питал к Венеции с юности, что вполне выразилось в обоих сборниках его венецианских эссе. «Читателю „венецианского“ эссе Иосифа Бродского „Watermark“, — справедливо пишет Санна Турома, — трудно не заметить того чувства счастья и благодарности, которое присутствует в наблюдениях автора, странствующего по Венеции. Венецианский пейзаж доставляет Бродскому эстетическое удовольствие»[256].
В хронологическом движении венецианских тем в творчестве И. Бродского проза о Венеции занимает промежуточное место. До нее уже созданы такие значимые произведения, как «Лагуна» и «Венецианские строфы» (1) и (2), после нее написаны «Посвящается Джироламо Марчелло», «Лидо», «С натуры»… Такое положение во времени обусловило отношения венецианской прозы И. Бродского с его же венецианскими стихотворениями. Его эссе вбирают в себя поэтические образы предшествующих произведений и в ряде случаев предваряют мотивы произведений будущих.
Порой текстуальная близость образов венецианской прозы И. Бродского к первоначальным поэтическим формулам столь велика, что, кажется, они просто перемещаются из одного текста в другой. Однако при ближайшем рассмотрении становится видно, что поэт никогда не воспроизводит стихотворные строки без изменений. Характер последних может быть различным. Иногда прозаический вариант в образных деталях оказывается даже поэтичнее стихотворного. В качестве примера такого соотношения можно указать на параллельные образы в венецианских эссе и стихотворении «Лагуна»: «Зимой в этом городе, особенно по воскресениям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе» (215; 28)[257] и
Венецийских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней.
В прозаическом варианте аудиальные образы несколько приглушены, звон заменен позвякиванием, но появляются дополнительные характеристики звука, связанные с замещением коробки — серебряным подносом, помещенным в верхней точке пространства, в небе, так что звук, как и колокольный звон, течет сверху вниз. Более того, прозаический вариант здесь производит впечатление текста, сознательно ориентированного на поэтизмы, как то кисея, серебряный, жемчужном. Проза, как видим, устремляется к поэзии, слегка пародируя ее, но одновременно она от поэзии и отталкивается, ибо основная тенденция в адаптации поэтических образов к прозаическому контексту у И. Бродского базируется на последовательном сломе поэтического ритма путем перестраивания фразы, включения новых слов и словосочетаний. Это не означает избегания ритмических вкраплений в венецианскую прозу вообще — они нередко появляются в «Набережной неисцелимых» и «Watermark». Хотя сопоставлять ритмические периоды английского, на котором написаны обе книги о Венеции, и русского языков весьма затруднительно, в случаях с сохранением при переводе синтаксиса и порядка слов английского текста ритм, сходный с поэтическим, ощущается достаточно отчетливо. Причем ритмическое сходство возникает у И. Бродского, как правило, тогда, когда текстовый фрагмент образно с поэзией не соотносится. Вот один из сравнительно многочисленных примеров: «Seasons are metaphors // for available continents, // and winter is always somewhat // antarctic, even here» («Времена года суть метафоры // для наличных континентов, // и в зиме есть всегда что-то // антарктическое, даже здесь») (116; 247).