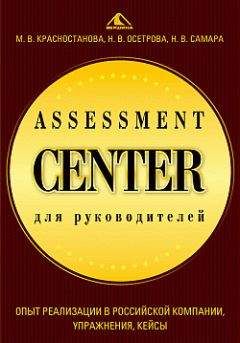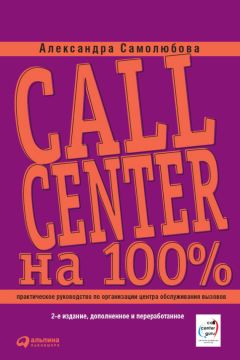5. Василий Белов
…Следом за Федором Абрамовым Вологда подарила России Василия Белова. «Плотницкие рассказы» его были напечатаны в «Новом мире» летом 1968 года и читались под аккомпанемент танковых гусениц, крошивших брусчатку Праги. И поэтому впечатляли еще сильнее.
Ироническая нота зазвучала в них сразу, она потом крепла от рассказа к рассказу, став доминирующей в вологодских «бухтинах», вышедших годом позднее.
В «Плотницких рассказах» Василий Белов излагает как бы веселую и незначительную историю вековечного спора двух вологодских стариков, которые вспоминают будто невзначай о людской неправде, окружавшей их сызмальства. Одному поп на исповеди ухо драл за честность. «Надо было говорить: «Грешен, батюшка!», а я правду говорил, что в чужой огород не лазил»… За честность и отвертел ухо.
Мальчонка прошел сто пятьдесят километров до города за свидетельством о рождении, а его ни с чем отправили обратно, сказали: «Никаких записей на тебя нет… Получается, ты и не рождался вовсе. Нету тебя…»
Слово за слово плетутся стариковские байки, пока очередной «взрыв» не рассорит стариков.
О чем же они спорят за «чекушкой» водки, сухожильный старичок-колхозник Авинер Павлович Козонков и старик Олеша Смолин, которого так до глубокой старости и прозывают в деревне Олешей?.. Кстати, чокнулся с ними и мальчонка шести лет, Славко. Выпил, как взрослый… Ну, это так, деталь деревенского быта.
Рассказывает Авинер Козонков. Все про жизнь свою боевую. «У меня голова крепкая… Бывало, против религии наступление вели — кого на колокольню колокола спехивать? Меня… Полез и полез. Да встал на самый край, да еще и маленькую нужду оттудова справил, с колокольни-то…»
Поведав о своих подвигах, Авинер Козонков все спрашивает автора, который из самой Вологды, не дадут ли ему «персональную» (т. е. персональную пенсию). За то, что колокола «спехивал», с наганом ходил и прочее.
На проводы автора опять старики сошлись, да тут же и схватились: Олеша Смолин Козонкову его бахвальства «наганной молодостью» не спускал.
— А ты как был классовый враг, так и остался! — повысил голос Козонков. Подрались старики.
— Я за коллектив родному брату головы не пожалею! — кричал Авинер.
Автор чувствует себя виноватым в драке: вызвал из прошлого притихших было духов. Не выдержал, пошел к Олеше. А там сидят они, старики, как ни в чем не бывало. Пьют чай. Словно и не дрались. Разговор мирный: «Я уж подсчитал, на гроб надо сорок восемь гвоздей». Заказ делает один другому: «А вот чего, парень: сделай мне гроб на шипах…»
«На шипах домовина, конечно, не то что на гвоздях, оно поплотнее».
А потом запели старики старинную протяжную песню.
Вот и весь рассказ. Ни о чем вроде. А рассказ-то очень серьезный, Об истории России, как видится она тем, кто помоложе: и чего петушились, колокола «спехивали», с наганом ходили? Все равно, одному домовина на гвоздях, другому на шипах… А крови-то, кровищи пролито, пол-России в крови.
Если иметь в виду, что рассказ вышел за месяц до вторжения в Чехословакию, а читался, когда Авинеры Козонковы из ЦК продолжали «колокола спехивать», только на этот раз колокола назывались «социализмом с человеческим лицом», реакцию читателя на этот ироничный рассказ можно себе представить.
Спустя год, когда счет жизни «Нового мира» Твардовского пошел уж не на месяцы, а на дни и часы, такие вещи больше не проходили.
В годину бед трагедий писать не дозволено. В 1939 году — году массового террора — в Союзе писателей спорили о возможности самого жанра трагедии при социализме. Ученые оппоненты, вздрагивавшие при каждом стуке в дверь, конечно, склонялись к тому, что при социализме трагедийный жанр отомрет.
К концу шестидесятых годов он начал «отмирать» снова…
Если в 1964 году еще могла появиться повесть «На Иртыше» Сергея Залыгина, а в 1966, хоть и по недосмотру, но все же выскочила «Колывушка» И. Бабеля, то в 1969, смертном для «Нового мира» году, о серьезном и трагическом удалось сказать лишь так: «Бухтины вологодские (завиральные, в шести темах). «Бухтина — ложь, враки — вологодский, архангельский говоры (достоверно записаны автором со слов печника Кузьмы Ивановича Барахвостова…».
Ну, а насколько бухтины веселые да завиральные, уж судите сами:
Биография. 1. Родился. «Успел. Как раз к земельному переделу». 2. Лежу с незавязанным пупом. А они только нитку прядут… 7. Делились «богачеством». «Полкоровы мне, полкоровы отцу».
Домой жена не пустила, после того как колхоз образовали: «Ночевай в любом доме, для чего и колхоз…»
Началась общеколхозная жизнь. «А в ту пору все мы переживали подъем напряженных нервов…»
И лишь невзначай обронил автор: «Ведь что за народ нынче! Бухтины гнешь — уши развесят. Верят. Начнешь правду сказывать — никто не слушает». Что ж, вот вам тогда бухтины…
«Как прожить колхознику? В избе несметный содом. Штурм Берлина, подписка на заем… Одно утешение — охота… Вдруг навстречу медведь. «Стой, кричу, шаг влево, шаг вправо считается побег!» Я ему чекушку подал, он выпил. Спрашиваю, вот ты всю зиму спишь, не кушаешь. Хлеба тебе не надо. Как это у тебя ловко выходит? Открой секрет. Семья, говорю, большая, на всю зиму завалились бы, любо-дорого…»
Прибыли из города охотники. В газете потом была заметка: «Уничтожили хЫщника». «Это мишка-то хЫщник?» — удивляется рассказчик.
И дальше — все про то же колхозное «счастье». «Вожжей нет, — говорят в правлении. — Вожжей нет — дела нет. Не отвезти, не привезти. Я тут же: а из паутины. Обдираем с кустов паутину. Поезжай куда хочешь, любо-дорого».
А вот тема — совсем темная, предупреждает автор. Можно сказать, «светлой» памяти Никиты Хрущева. «Решил помереть. Прихожу на тот свет. Не пускают. Стучусь. «Местов нет!» Думаю: в ад или в рай. «Газеты, гражданин, надо читать, отвечают, — ни ада, ни рая давно нету. Произошло слияние ведомств».
Следующая тема куда мрачней. «Разжился» — называется одна из бухтин. Совесть поехал покупать Барахвостов. Ни у кого нет. Наконец нашел. Домой приехал, сумку — в погреб (с совестью). Лежит третий год.
Ждет «Новый мир» телефонного звонка. Когда прикрывать начнут. Тем и бухтины вологодские завершаются. «Конец известен» — называется последняя.
Вдруг бумага из области: «Прекратить разбазаривание бухтин! Барахвостова остановить!» Приходят с понятыми: «Приказано все бухтины у вас описать, принять под расписку». — «Что вы, ребята?» — «Не разводи частную собственность».
«Делать нечего — сдал. Теперь по вечерам дома сижу, помалкиваю…»
Вот так представлялся порой редакции «Нового мира» ее конец. С улыбочкой. Не думали только, гнали эту мысль от себя, что когда с понятыми приходят, много не наулыбаешься. Год прошел — хоронили Александра Твардовского.
Наступал конец легальной литературы. Вскоре не разрешат и бухтины. Все талантливое схоронит советский писатель в погреб. Куда Барахвостов совесть спрятал. На будущее. Или для самиздата.
…Чтобы не осталось ощущения, что Василий Белов интереснее всего именно в этом «шутейно-бухтинном жанре», что именно тут он нашел себя, вспомним горестный и умный рассказ «Мазурик», один из его реалистических рассказов, опубликование которого и выдвинуло В. Белова в первые ряды писателей, печальников русской деревни.
Главный герой его Сенька Груздев — самый веселый и беззаботный парень, инвалид войны. Жену свою, красавицу Тайку любил и хвалил. Да себе на шею. Пока он воевал, Тайка ему двойню родила, «гульнула слегка с одним из уполномоченных», спокойно сообщает автор. Спокоен и Сенька. Мудрый человек, предвидел. Когда его на фронт отправляли, он отплясывал у подводы и пел одну и ту же частушку:
В Красну Армию, робятушки,
Дорога широка.
Вы гуляйте, девки-матушки,
Годов до сорока.
Чужих детишек принял, как своих. Только частенько ругал Тайку: «Ты бы, дура, хоть не двойников, понимаешь! Ты бы хоть одного, дура, а то, вишь, сразу двоих заворотила».
Не прошло и года, как Тайка снова родила двойню. На этот раз кровных, Сенькиных. Один умер. Но все равно, два своих (одного еще до войны соорудил) да два от начальства. Четверо ртов да Тайка. Прокорми-ка такую ораву. Подыми на ноги!..
И вот как-то ночью Сенька, назло Илюхе-бригадиру, «уволок с полосы ячменный сноп. Хотелось ему, чтоб пришел утром Илюха и увидел, что снопа нет, хотелось как-то насолить бригадиру, который на ночь все снопы пересчитывал».
Сколько может выразить писатель одним придаточным предложением! «…который на ночь все снопы пересчитывал». Рассказ, по неизбежности, только о Сеньке, без гроссмановских обобщений, невозможных в подцензурной литературе.
«Все течет» Василия Гроссмана, с подробным описанием организованного Сталиным голода, крестьяне, вымирающие — село за селом, страшная жизнь села, вынужденного воровать, чтобы не околеть, сосредоточена здесь, у Василия Белова, в одном придаточном предложении из шести слов.