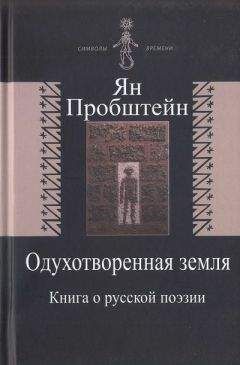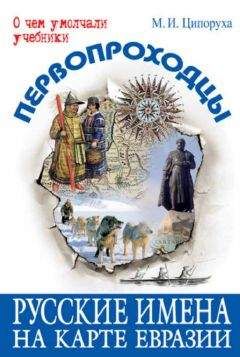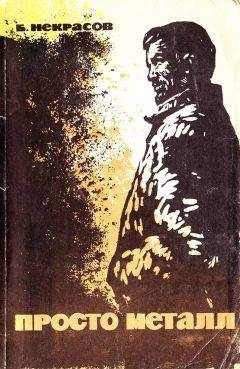Об этом же говорил чилиец X. Эдвардс и привел пример молодого Пабло Неруды, который в юности избрал добровольное творческое изгнание: книгу, написанную им в Рангуне, можно было бы перевести как «Местожительство — земля». Жизнь в Рангуне, по собственному признанию Неруды, была для него творческой изоляцией в языке. «Родина — грустное слово, как лифт или градусник», — писал молодой Неруда. В этом стихотворении он говорит о том, что общество — это мир, где словами пользуются как инструментами власти, из политических соображений. Но есть и другие слова — грустные, и в этот мир он уходит жить изгнанником ради жизни в словах, а не в странах. (Как известно, впоследствии взгляды Пабло Неруды существенно изменились.) Таков был путь — вольный или невольный — Рильке и Томаса Манна, отказавшегося возвращаться в Германию после войны.
Антонин Лем рассказал о встрече с 80-летним Романом Якобсоном. «Я вижу сны и говорю в них по-русски, пишу о лингвистике по-английски, когда болею, прошу принести мне французский роман, о политике думаю по-чешски, с женой разговариваю по-польски. А кроме того, есть еще немецкий и датский».
— «Кто же вы, Роман?» — спросил я. — «Русский лингвист», — ответил тот, и это было святой правдой.
Представители, так сказать, «малых народов» говорили о стремлении быть услышанными «большими народами», они приводили доводы в защиту перемены языка как средства достижения точности и краткости, борьбы с провинциализмом, изменения сознания и восприятия мира. А. Шамас привел высказывание С. Бекета о том, что композитор, если он к тому же пианист, не должен сочинять произведения для фортепиано, ибо пальцы могут завести в края, куда он и не собирался.
Уильям Гэсс, удивленный той легкостью, с которой некоторые писатели смогли перейти на другой язык, все же полагает, что пример Набокова является исключением. У Набокова было то преимущество, что у него с детства была английская гувернантка. Однако несмотря на то, что его английский изыскан, а проза интеллектуальна, умна и сложна, он очень часто писал как бы на цыпочках или во фраке и только в своих русских мемуарах осмелился дать волю человеческим чувствам. «Что до перемены языков, — заметил Гэсс, — то существует еще и музыка языка, без которой нет искусства. Даже сдвиг гласных ведет к эмоциональному изменению внутреннего „я“, говорящего не только на языке родины, но и детства. Если же говорить о стремлении быть услышанными большой аудиторией, то, пожалуй, американские писатели чувствуют и понимают больше других, что никому нет дела до того, о чем они говорят, и они, быть может, правы».
Говоря о философском значении эмиграции, Гэсс заметил, что для многих американцев идея эмиграции весьма привлекательна и полна романтики, их воображение сразу же рисует поэтов, проводящих жизнь в парижских кафе. На самом же деле изгнание — это глубинный и трагический вопрос о выборе Сократа, который ожидал в не очень строгом заточении окончания празднеств и легко бы мог бежать из Афин. Выбор Сократа — это не вопрос выбора места жительства, это вопрос выбора жизни или смерти, сохранения своего образа или утрата его. Этой теме был посвящен доклад «Изгнание. Ответственность. Судьба» чехословацкого писателя Яна Владислава. «Некоторые пересекают континенты для того лишь, чтобы с удивлением обнаружить, что они чувствуют себя как дома одновременно в разных частях света. Но дом — это еще и то место, откуда мы родом и куда обращаем взгляды со все увеличивающегося расстояния. Ибо для человека нематериальное нереальное время математиков застывает и воплощается в памяти, становясь как бы ее позвоночником. Родная деревня может быть затоплена водами плотины или стерта с лица земли бомбами, пейзаж можно изменить до неузнаваемости как созидательной, так и разрушительной деятельностью человека, но мы никогда не расстаемся с образом этого места встречи, места узнавания, признания или непризнания нас остальным миром. Быть может, это и есть ад в сердце? Но тогда есть и рай. Защищенность, твердая почва под ногами, пусть на мгновение — и есть рай. Ад — постоянные скитания».
Но даже это, по мнению Яна Владислава, — внешнее: каждый день, каждый час отдаляет человека от дома. Настоящий выбор — не между изгнанием и родиной, но, что было известно Сократу, между жизнью и смертью. «Вопрос о том, может ли человек принять жизнь, а стало быть, и смерть, зависит от того, его ли это жизнь (и смерть) или навязанная ему. Жить своей жизнью — значит оберегать дом в себе, иллюзорный, но все же истинный дом. И, таким образом, обрести в нем историю, семейные традиции, язык, идеи, очаг — родину. Жить чужой жизнью даже в нескольких шагах от того места, где родился, значит утратить все это. Жить чужой жизнью — значит и принять чуждую смерть. В выборе Сократа была истинная независимость, продиктованная свободой и долгом. Дело писателя, его долг и дом — его слово, литература».
Я. Владислав говорил о многих писателях, оставшихся на родине и вынужденных жить навязанной им жизнью, жить в литературе по воле цензоров внешних и, что самое ужасное, внутренних. Книга «Цветы зла» Бодлера подвергалась преследованию (что, по мнению, Владислава, привело к улучшению книги), но подобные преследования в тоталитарном государстве имеют универсальный характер. Писатели, в ком было сильно чувство долга, боролись, как Вацлав Гавел, за сохранение целостности жизни, за сохранение личности. И они, как выразился чехословацкий писатель И. Груша, становились мечеными, изгоями, «несли в себе портативное гетто» — даже если эмигрировали, как Нобелевский лауреат Милан Кундера.
X. Бинек говорил об эмиграции как о восстании, бунте. Ричард Ким заметил, что эмиграция превращает труд писателя в то, чем он и должен быть — в очень личное занятие. Наиболее горькими в этом смысле были выступления русских писателей, самой многочисленной группы на конгрессе. Т. Венцлова говорил о русском поэте и философе XIX века Владимире Печерине. Став «невозвращенцем», Печерин перешел в католичество, принял монашество и умер в Дублине, дожив до 78 лет. В старости он придерживался крайне консервативных взглядов и устраивал публичные сожжения книг. Существует мнение, что он был прототипом Великого Инквизитора. Стихи Печерина:
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья
говорят, по мнению Венцловы, не только об авторе этих строк, но и о родине, которая может вызвать такие чувства. Давая литературно-исторический анализ переписки князя Курбского с Иваном Грозным, Венцлова приходит к выводу, что по-человечески (а отчасти и по-Божески) прав был Курбский, хотя его несчастливая жизнь в Польше и его писательская судьба неутешительны. Одареннейший писатель, переводчик Цицерона и Иоанна Златоуста на русский язык, Курбский был консерватором в литературе. Его послания Ивану Грозному риторичны, тяжеловесны, в них нет раскованности, чувствуется неуверенность. Иван Грозный был новатором в литературе: меняя маски, смешивая стили, лицемеря, искренне негодуя и иронизируя, он проявил поистине шекспировские качества, яркую индивидуальность стиля, что немудрено: во всей империи он был единственным, кому было дозволено быть личностью. В довершение ко всему, исследователь из Гарвардского университета Эдвард Л. Кинан заявил спустя четыреста лет в 1971 году, что переписка Курбского с Грозным апокрифична. Опираясь на сложные текстологические анализы, Кинан утверждает, что переписка — дело рук Семена Шаховского, который жил около ста лет спустя. Утверждение это спорно и по мнению многих исследователей, в том числе Томаса Венцловы, не выдерживает критики, но сам факт того, что поставлено под сомнение не только «авторство», но и судьба Курбского, символичен. Существует устоявшееся мнение на этот счет: эмиграция подобна духовному самоубийству и означает отречение от некоторых мистических истин, способных взрасти только на родной почве. Даже если жизнь на родной земле трудна или невыносима, грешно и порочно покидать ее. Человек не может выжить на чужбине. Писатель не может выжить в чужом языке. Вне коллективной души народа нет ни смысла, ни достоинства — личности в этой расхожей теории просто нет места. Право свободного выбора отвергается априори. Несостоятельность этой теории доказана творчеством И. Бунина, В. Набокова, М. Алданова, С. Рахманинова, В. Кандинского, М. Шагала, и всей историей русской эмиграции XX века.
Ю. Милославский вспомнил о трагической судьбе Григория Котошихина, дьяка Посольского приказа, бежавшего в Швецию и написавшего там трактат «О России в царствование Алексея Михайловича». В пьяной ссоре Котошихин зарезал своего домовладельца, подозревавшего жильца (возможно, не без оснований) в связи со своей женой. Котошихин был казнен на площади за южными воротами Стокгольма, а его тело, перевезенное в Уппсалу, было рассечено на части профессором Олафом Рундбеком. «Кости его, натянутые на медные и железные струны, — пишет шведский биограф и переводчик Котошихина, — до сего дня как некий памятник хранятся в этом городе».