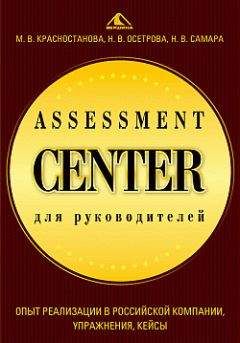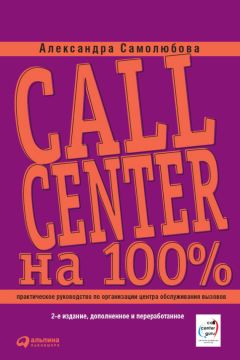«Куда-то учапала», «законно повеселились», «руки мерзнут, ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть», «и прочие печки-лавочки», «чин-чинарем»… «шуточек таких, что оторви да брось», «буги-вуги лабает джаз», «ну и будка у тебя, Валерий»… И прочее, и тому подобное.
По знанию новейшего сленга Василия Аксенова можно сравнить разве только с Александром Галичем, поэзия которого порой просто настояна на современном сленге; настояна так густо, что старые парижские эмигранты, пришедшие на первый концерт Галича, порой не понимали ничего, словно Галич пел на незнакомом языке…
Сленг между тем придает пронзительную достоверность этому, казалось бы, невинному рассказу, в котором с огромной впечатляющей силой сказано о том, что жизнь вольного человека на Руси, — как жизнь зэка. Те же нары, те же бараки, та же работа, порой связанная со смертельным риском, и та же недосягаемость мечты, любой мечты, не связанной с деньгами, до которой, как выясняется, не ближе, чем до луны.
…Все эти годы не прекращает труднейшей работы и Владимир Тендряков; первые его произведения — «Ненастье», «Падение Ивана Чупрова» и др. — имели подзаголовок «очерк». При переизданиях подзаголовки «очерк» или «очерки» обычно снимались.
Очерк — жанр литературной разведки, он как бы не претендует на вселенские обобщения, описывает частный случай и в этом описании может исследовать «частность» как угодно глубоко…
Простое ухищрение, но оно очень помогло Владимиру Тендрякову, которого, по выражению одного из критиков, «развернуло мгновенно, как пружину». Он не вошел в литературу, а скорее врезался в нее. «Тугой узел», как, впрочем и «Ухабы», о которых я говорил особо, уже не имели подзаголовка «очерки», хотя и тут все начинается со «случая». Скажем, дождь в «Тугом узле» — случай, а то, что колхозников заставляют сеять в холодный дождь, когда заведомо зерно не прорастает, — не случай. Авария в «Ухабах» — случай, но то, что Княжев, несший раненого, не дает трактора, — это уже не дорожный случай.
«Конкретность факта и конкретность мысли — в поддержку друг другу. Именно эта плотность сросшихся между собой наблюдений и составляет силу прозы Тендрякова», — справедливо замечает лучший исследователь творчества Вл. Тендрякова новомирский критик Инна Соловьева.
Такой плотностью факта и мысли отмечены и ранние и последующие рассказы и повести Тендрякова. Скажем, «Тройка — семерка — туз», рассказ, в котором представители правосудия увозят невинного, защищавшегося от убийцы.
Этой плотности нет и в помине в толстых романах Тендрякова последних лет, в которые он ушел, как уходят в бомбоубежища во время жестокого налета…
В последние годы он жил на даче, в Союзе писателей не показывался. огонь; Зарабатывал главным образом переводами «классиков-националов».
Владимир Тендряков был опытен и умен, не высовывался на ураганный увы, в литературе опыт подобного рода не раз приводил писателей к литературной смерти. Возможно, этого состояния Тендряков и не выдержал. Он умер от инфаркта в 1984 году.
…Если кого-нибудь красносотенцы ненавидели воистину остервенело, так это автора «Нового мира» И. Грекову. И. Грекова — псевдоним. Если произнести его слитно — «игрекова». От игрека, означающего неизвестную величину, и происходит псевдоним одаренной писательницы Елены Сергеевны Венцель, доктора наук, одного из самых известных в стране ученых, в прошлом профессора Военно-воздушной академии им. Жуковского.
Ненависть к ней вызывалась и ее прозой, и полной независимостью Е. Венцель от литературных временщиков. Она была недосягаема, паря там, на высоте своих засекреченных наук.
Однажды, когда И. Грекова сидела за столом президиума, Александр Твардовский шепнул, наклонясь к ней, что пора ей окончательно уходить в литературу, так как она давно уж профессионал. И. Грекова ответила что-то, и оба расхохотались, и она, и Твардовский. Оказалось, она ответила своему редактору: «Мне? Профессионально — в литературу? Да это все равно, что мне, солидной женщине, матери троих детей, предложить пойти на панель!»
И. Грекова вошла в литературу рассказом «За проходной». В рассказе — молодые ученые секретной лаборатории, которым мало восьмичасового рабочего дня, и они, энтузиасты, борются за десятичасовой… Борются все: Саша по прозвищу Мегатонна, огромный парень, самый умный после «Вовки-умного» и который, в то же время, некультурен, дик. «От земли» — талант. Научный таран… Слишком красивая Клара по прозвищу «Три пирожных сразу». Женька-лирик, мечтающий написать поэму «Аврал умственной работы». Спорят о том, нужна ли вообще лирика, не прав ли инженер Полетаев, который объявил в «Литературке» лирику устаревшей. Ругают Илью Эренбурга и вдруг кто-то читает стихи. «Лишь через много-много лет, Когда пора давать ответ, Мы разгребаем груду слов. Весь мир другой — он не таков». И все замолчали, задумались о чем-то, казалось, необычном для этой секретной лаборатории.
Лабораторией руководит «чиф», научный руководитель Логинов Викентий Вячеславович, по прозвищу «Черный ящик». И дело не только в том, что «чиф» непонятен — не то ученый, не то авантюрист, — а в том, что труд великолепных ребят использует современное варварство, способное истребить весь земной шар плодами их труда.
Ребята работают на «черный ящик»…
Никто не посмел так расшифровать рассказ Грековой, но никто из руководителей не забыл ей этого.
Из подобных «черных» лабораторий вскоре вышли на свет и академик Сахаров, и десятки молодых ученых, его сподвижников.
Следующий рассказ И. Грековой, «Дамский мастер» — один из лучших ее рассказов, о парикмахере-художнике Виталии, которому не позволяли творить. От него требовали план — и только. И Виталий, подлинный художник, творивший с женской головой чудеса, ушел в слесари. Подальше от халтурщиков и выжиг.
Оказывается, творить невозможно даже парикмахеру. Он же не на войну работает!
Этот рассказ трагический, хотя его трагизм руководителям культуры был непонятен, и И. Грекову оставили в покое, пока она не опубликовала повесть «На испытаниях». Тут уж ей воздали за все: и за правдивое изображение дикости и тупости жизни захолустного гарнизона, и за еретические мысли.
В дни нескончаемой «юбилиады», перешедшей в обычный литературный погром, И. Грекову, по совокупности еретических мыслей и в литературе и в жизни, прорабатывали на всех собраниях.
Судьба «Нового мира» стала и ее литературной судьбой. На литературную панель И. Грекова, как можно догадаться, не пошла, а удалилась тихо профессорствовать в один из невоенных институтов.
Много разговоров вызвали Виталий Семин своей повестью о рабочей семье «Семеро в одном доме» и рассказами, и Юрий Домбровский, бывший зэка, светлейший человек, писатель и ученый, автор романа «Хранитель древностей», напечатанного в «Новом мире».
…Поднялся однажды до высот «Нового мира» Анатолий Кузнецов своим прекрасным рассказом «Артист миманса», может быть, лучшим своим произведением, однако вскоре он не вернулся из Лондона, и советская печать начала торопливо выскребать его из сознания поколения как перебежчика.
В литературе аллегорий, пожалуй, все эти годы лидировал Феликс Кривин, первая книга которого вышла в Ужгороде и тем не менее стала широко известной.
В 1966 году его «Божественные истории» стали одной из самых популярных книг; и чем сильнее свирепствовала цензура, чем быстрее гибла сатира, тем охотнее читался Феликс Кривин, в творчестве которого торжествовал Эзоп.
Ведь он писал о том же — об ушедшей и вовсе не ушедшей кровавой эпохе: «Избавь меня, Бог, от друзей, а с врагами я сам справлюсь! (сказал Александр Македонский. — Г. С.). Он так усердно боролся с врагами, что Бог избавил его от друзей».
Столь же актуален и «Мафусаил»:
«Первым человеком был Адам.
Мафусаил не был первым человеком.
Первым пророком был Моисей.
Мафусаил не был первым пророком.
Поэтому Мафусаил прожил девятьсот шестьдесят девять лет. И в некрологе о нем написано: «Безвременно скончался…».
Он не щадит, Феликс Кривин, и своего читателя, только что боготворившего Сталина, а затем Хрущева и снова готового вознести над собой нового «вождя и учителя».
«Не сотвори себе кумира. Я, например, не сотворю. У меня, например, к этому не лежит душа.
Зашумело стадо Моисеево.
— Вы слышали, что сказал Моисей?
— …как это правильно!
— …как верно!
— …не сотвори кумира!
— …О, Моисей!
— …мудрый Моисей!
— …великий Моисей!..»
Самое удивительное, что эти «Божественные истории» изданы Политиздатом. Вероятно, по графе антирелигиозной литературы.
О, Эзоп!
В эти годы он стал нашим главным литературным наставником.
Благодаря ему правда просачивалась иногда даже на страницы «Литературной газеты». Чаще всего на шестнадцатую страницу, где царствовали сатирики и юмористы.