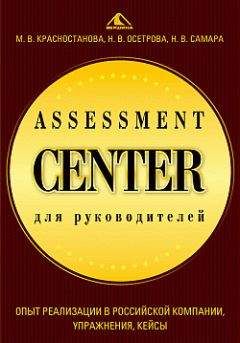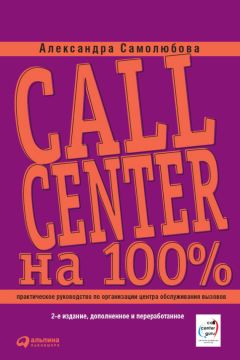Василь Быков не боится сказать это, понимая, как возненавидят его не только гродненские гебисты, но и миллионы обывателей, не сумевших расстаться с черно-белой концепцией, внушенной государством: «Кто сегодня поет не с нами, тот против нас».
И раздумья, и ощущение «нелепой оплошности» Быков дал незапятнанно-чистому Сотникову, который после пыток обрел, по словам автора, «какую-то особую, почти абсолютную независимость от своих врагов».
Та выношенная в душе «тайная свобода», о которой говорил Пушкин, та внутренняя свобода, которую призывал не утратить молодых писателей Константин Паустовский, которую только и считает подлинной свободой Андрей Амальрик в письме к Анатолию Кузнецову, здесь доведена до своего сюжетного и психологического завершения. Истерзанный человек палачей своих не боится. Как не боялся Солженицын. Не боялся Галич. Не боится Быков, завершая «Сотникова».
И вот ведут на казнь. И Сотникова, и старосту Петра, и Демчиху, и девочку Басю, и Рыбака. Рыбак в отчаянии окликает следователя Портнова и говорит, что он согласен служить в полиции.
Рыбаку предоставляют такую возможность, только именно он, а не кто-либо другой, должен выбить бревно из-под ног Сотникова, когда дадут сигнал: вешать! И Рыбак выбивает бревно…
Так завершается эта трагическая повесть, неожиданная и тем, что вскоре после ее появления КГБ «вдруг» отыскал Рыбака, вернее, того, кто был выведен под именем Рыбака, — об этом рассказывает в своих «Дневниках» Эдуард Кузнецов. Он сидел с этим Ляпченко-Рыбаком в камере смертников, и Ляпченко все просил у надзирателей дать ему «Новый мир» пятый номер; присутствовавший на суде Василь Быков подошел к Ляпченко, сказал тому, чтоб прочитал о себе, да только Ляпченко было в тот час не до изящной словесности — он послал автора в известное русское место. А потом все жалел…
Повесть Василя Быкова вдруг оказалась документальной, и это сразу повысило значение и неоспоримую достоверность всего остального, чего ранее пытались не замечать или объявить писательской выдумкой. Неопровержимым стал и образ старосты Петра, и направление мыслей героя книги Сотникова о Петре, и не только о Петре: «Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой».
Вот какие мысли пришли в голову Сотникову, когда рядом с ним вешали тех, кто погиб из-за них с Рыбаком: старосту, Демчиху, Басю. А Рыбак умирать не захотел.
В литературу двадцатых годов вошли два героя, объявленных классическими. Интеллигент Мечик и крестьянин Морозко. Интеллигент, спасая свою шкуру, предал крестьянина. «Разгром» Фадеева художественно утвердил сталинский навет на интеллигенцию, — недаром А. Фадеев стал любимцем Сталина… Косяком сельдей напирала затем — десятки лет — тьма книг, радиопередач, фильмов, в которых предатели, по обыкновению, знали иностранные языки и носили пенсне.
Василь Быков развеял по ветру этот «кровавый навет». Предатель Рыбак — бывший армейский старшина, малокультурный, надежный, рабоче-крестьянского корня. Наверняка на «гражданке» был ударником, стахановцем. Взращенный трудовым порывом и политической истерией тридцатых годов, что он вынес из них? Мысль «Своя рубашка ближе к телу»? Иронию над «принципами» образованных?..
Оказалось также, что Рыбак — ипостась Бритвина из «Круглянского моста», верного сына эпохи. Бритвин высмеивал принципы Ляховича, который вел себя на допросе гордо. «Как в кино». И которого немцы повесили. Как и Сотникова. Ляхович — это, по сути, будущий Сотников. Так же как патриот Бритвин с его жестокосердным сталинским патриотизмом — в потенции предатель Рыбак.
На такое расшатывание «основ» еще никто не покушался. Четверть века Россия, усвоившая бесчеловечное «Кто сегодня поет не с нами…», пела: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой…»
И вот на всю эту кровавую мораль сталинщины, вошедшую в плоть и кровь нескольких поколений, обрушился силой своего таланта Василь Быков.
7. Владимир Войнович. Владимир Корнилов
Если Василь Быков поставлен под удар, его шантажируют, ломают, но еще печатают, и, кто знает, может, ныне не только кнут, но и «пряник» пустили в ход — московскую прописку, то с Владимиром Войновичем, как известно, уже расправились: он был исключен из Союза писателей СССР, его пытались даже отравить. Почему?
Задержим свое внимание поначалу на произведениях В. Войновича, напечатанных в России. Поставивших его в первый ряд современных русских прозаиков. Возможно, в них заключен ответ?
В. Войновича выталкивали из СССР долго. Как известно, его изгнание большевикам не помогло.
Сколько лет мы дружили с ним.
Однажды, заглянув к нему, я увидел, что он налаживает в прихожей своей маленькой писательской квартиры на Аэропортовской верстак и слесарные тисочки. «Буду слесарить, — ответил он на мой немой вопрос. — Иначе придушат…»
А были и другие времена, когда Никита Хрущев, на встрече космонавтов, неожиданно запел на трибуне Мавзолея песню на слова Войновича:
…На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы…
После этого Войновича утвердили на какой-то «полупридворной» должности поэта-песенника с огромным окладом. В тот час, когда это произошло, Войнович перестал писать. По заказу он писать не умел. Его терпели восемь месяцев, а потом изгнали из рая.
Словом, он был самим собой, где бы ни оказывался: в седле или под седлом. Всегда он оставался душевным, застенчивым, надежным человеком. Кристально честным.
Так и называется его произведение, напечатанное впервые в «Новом мире», — «Хочу быть честным». Слитность душевной устремленности автора и его героя — предельна.
Перед нами, нельзя не заметить, очень симпатичный герой. Он добр и ироничен; особенно по отношению к самому себе: «На одном из заборов висит фанерный щит с надписью: «СУ-II. Строительство ведет прораб т. Самохин». А рядом афиша: «Поет Гелена Великанова». Тов. Самохин — это я. Гелена Великанова никакого отношения ко мне не имеет». Герой бреется, поглядывая на самого себя в зеркало. «Откровенно говоря, зеркало приносит мне мало радости. Из него на меня смотрит человек рыжий, отчасти плешивый, более толстый, чем нужно, с большими ушами, поросшими сивым пухом. В детстве мать говорила мне, что такие же большие уши были у Бетховена. Вначале надежда на то, что я смогу стать таким, как Бетховен, меня утешала…»
Герой относится к себе иронически во всех ситуациях; даже когда его хвалит женщина, с которой живет, он пожимает плечами, как бы иронически подмигивая читателю: «Это она обо мне. Книжки не доведут ее до добра».
Наконец он добирается до прорабской, где его ждет, как пишут советские газеты, Его величество рабочий класс. Первым попадается на глаза паркетчик Шмаков, прозванный Писателем за то, что зимой ходит без шапки. Вместе с «писателем» Шмаковым и появляется главная тема повести.
«Шмаков, — говорю я писателю. — В третьей секции ты полы настилал?..
— Ну, я, а что? — Он смотрит на меня со свойственной ему наглостью.
— А то, — говорю я. — Паркет совсем разошелся.
— Ничего, сойдет. Перед сдачей водицей польем — сойдется.
— Шмаков, — задаю я ему патетический вопрос… — У тебя рабочая гордость есть?
— Мы люди темные, — говорит он, — нам нужны гроши да харчи хороши…»
Другой рабочий навешивает двери, загоняя шурупы ударом молотка по самую шляпку. «У тебя отвертка есть?» — «Нет». — «Ты разве не знаешь, что шурупы полагается отверткой заворачивать?» — «И так поедят…»
После получки все отправляются выпивать. Вместе с прорабом. Так принято — «обмочить получку». В столовой пить нельзя. Милиция и дружинники строго следят, чтоб в «неположенном месте» не пили. Когда они вдруг нагрянули, блюстители порядка, рабочий Сидоркин прикрыл пустые бутылки, стоявшие на полу, своим широченными брезентовыми штанинами. Другой, Ермошин, словно бы за чаем кинулся. Затем, когда дружинники ушли, вернулся, прося извинения:
«— Я же веду общественную работу. Меня знают. Скажут: «Сам выступаешь на собраниях, и сам же…» — «А ты одно из двух, — сказал Сидоркин, — или не пей, или не выступай…»
Но это — все понимают — требование несерьезное. Время толкает к иному…
Об этом — крестьянская проза. «Пелагея» Ф. Абрамова, В. Шукшин, В. Белов.
О том же — поэты-песенники: «Кто ответит мне: «Что за дом такой? Почему во тьме? Как барак чумной…»
Об этом, в глубокой тревоге, пытаясь скрыть ее шуткой, Владимир Войнович.
До души дошли! Душу убили самую. Не у чиновничества, что о тех говорить! У труженика, у которого в руках нет власти. Только серп да молот. И более всего, оказывается, разложили Его величество рабочий класс.