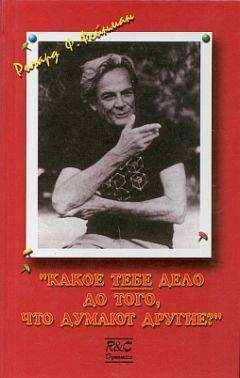Парень, который сперва так мило улыбался, делался все мрачнее. Но все обошлось. Я подписался ровно двенадцать раз. Оставалась еще одна подпись на чеке, так что я спокойно отправился туда и прочел им лекцию.
Спустя пару дней этот парень зашел ко мне, чтобы отдать чек. Он имел жалкий вид. Он не мог отдать мне деньги, пока я не подпишу бумагу о том, что я действительно прочел лекцию.
Я сказал ему: «Если я подпишу бумагу, то не смогу подписать чек. Но ты был там. Ты слышал лекцию; почему бы тебе не подписать эту бумагу?»
– Слушай, – говорит он, – разве все это не глупо?
– Нет. Мы договорились об этом с самого начала. Мы не думали, что дело действительно дойдет до тринадцати, но таков наш договор, и я думаю, мы должны его придерживаться.
Он сказал: «Слушай, я работал как вол, я обошел всех. Я испробовал все, но они говорят, что это невозможно. Ты просто не сможешь получить свои деньги, пока не подпишешь бумагу».
– Хорошо, – сказал я. – Я подписался двенадцать раз, я прочел лекцию. Мне не нужны деньги.
– Но я не хочу так поступать с тобой.
– Не переживай. Мы заключили сделку, все нормально.
На следующий день он позвонил мне. «Они не могут не дать тебе эти деньги. Они уже отсчитали эти деньги и списали их, так что они должны заплатить их тебе».
– Прекрасно. Если они должны заплатить мне эти деньги, пусть они заплатят мне их.
– Но ты должен подписать бумагу.
– Я не буду подписывать бумагу.
Я поставил их в тупик. В отчете не было графы для денег, которые человек заработал, но не хочет расписаться, чтобы получить их.
В конце концов они все утрясли. Это отняло у них много времени, и было совсем не просто – но я использовал тринадцатую подпись, чтобы получить деньги по чеку.
По-моему, они говорят по-гречески!
Не знаю почему, но, отправляясь в поездку, я всегда довольно беспечно отношусь ко всему, что касается адреса, телефона или хоть каких-то координат пригласившего меня человека. Мне всегда кажется, что меня встретят или кто-нибудь другой будет знать, куда нужно ехать; в общем, как-нибудь обойдется.
Однажды, в 1957 году, я отправился на конференцию по гравитации в университет Северной Каролины. Меня пригласили, чтобы узнать, как смотрят на гравитацию специалисты из другой области.
Я приземлился в аэропорту с опозданием на один день (я никак не успевал прилететь к началу конференции) и вышел на стоянку такси. Я сказал диспетчеру: «Мне нужно в университет Северной Каролины».
– А который из них Вам нужен? – спросил он, – Государственный университет Северной Каролины, который находится в Ралее, или университет Северной Каролины, который находится в Чапл-Хилл?
Естественно, я не имел ни малейшего представления. «А где они находятся?», – спросил я в надежде, что где-то рядом.
– Один – к северу отсюда, а другой – к югу, примерно на одинаковом расстоянии.
У меня с собой не было ничего, что могло бы подсказать, какой университет мне нужен, да и на конференцию никто, кроме меня, не опаздывал.
Последнее навело меня на мысль. «Слушайте, – сказал я диспетчеру. – Конференция началась вчера, так что вчера отсюда должно было уезжать много ребят. Сейчас я вам опишу их. Они постоянно витают в облаках, разговаривают друг с другом, не обращают внимания, куда идут, беспрестанно говорят друг другу что-то вроде: „Ж-мю-ню. Ж-мю-ню“».
Он просиял. «Да, да, – сказал он. – Вам нужно в Чапл-Хилл!» Он подозвал ожидавшее в очереди такси: «Отвези его в Чапл-Хилл!»
– Спасибо, – сказал я и отправился на конференцию.
Однажды на вечеринке я играл на бонго, и у меня получалось довольно прилично. Моя игра на барабанах так вдохновила одного парня, что он пошел в ванную комнату, снял рубашку и с помощью крема для бритья нарисовал у себя на груди диковинные узоры. Потом он вернулся обратно, выкидывая дикие па, а из его ушей свисали вишни. Нечего и говорить, что я тут же подружился с этим психом. Его зовут Джирайр Зортиан, и он художник.
Мы часто подолгу беседовали об искусстве и науке. Я говорил что-то вроде: «Художники – потерянные люди: у них нет даже темы! Раньше они могли творить на религиозные темы, но, утратив свою религию, они остались ни с чем. Они не понимают мир техники, в котором живут; им ничего не известно о красоте реального – научного – мира, а потому в их сердцах нет ничего, что можно было бы нарисовать».
Джерри же отвечал, что художникам не нужны физические темы; что существует множество эмоций, которые можно выразить через искусство. Кроме того, искусство может быть абстрактным. Более того, ученые вообще разрушают красоту природы, когда берут и превращают ее в математические уравнения.
Однажды я пришел к Джерри на его день рождения, и мы опять затеяли один из этих тупых споров, который продолжался до трех часов утра. На следующее утро я позвонил ему. «Слушай, Джерри, – сказал я, – мы затеваем эти дурацкие споры, которые ни к чему нас не приводят, только потому, что ты ни черта не знаешь о науке, а я – полный профан во всем, что касается искусства. Поэтому давай по воскресеньям по очереди обучать друг друга: в одно воскресенье ты даешь мне урок по искусству, в другое – я тебе по науке».
– Договорились, – сказал он. – Я научу тебя рисовать.
– А вот это невозможно, – сказал я, потому что еще когда учился в колледже, мог рисовать самое большее пирамиды в пустыне – состоящие, главным образом, из прямых линий, – и время от времени пытался изобразить пальмы и вставить в картину солнце. У меня совершенно не было способностей к рисованию. Я сидел рядом с одним парнем, у которого способностей было не больше моего. Когда ему разрешали что-то нарисовать, его рисунок состоял из двух сплюснутых в виде эллипса клякс, похожих на сложенные друг на друга шины, из которых торчала какая-то палка, которая завершалась зеленым треугольником. Это должно было изображать дерево. Поэтому я заключил с Джерри пари, что он не сумеет научить меня рисовать.
– Конечно, тебе придется потрудиться, – сказал он.
Я пообещал, что буду трудиться, но все равно побился с ним об заклад, что он не сумеет научить меня рисовать. Я очень хотел научиться рисовать по причине, известной только мне: мне хотелось передать ту эмоцию, которую у меня вызывает красота мира. Ее сложно описать, ибо это эмоция. Она аналогична чувству, которое человек испытывает в отношении религии и которое связано с Богом, управляющим всем во Вселенной: существует некий аспект всеобщности, который ощущаешь, когда размышляешь над тем, каким образом вещами, которые кажутся такими разными и ведут себя совершенно по-разному, «за сценой» управляет одна и та же организация, одни и те же законы физики. Это оценка математической красоты природы, принципа ее работы; осознание того, что видимые нами явления проистекают из сложности внутреннего взаимодействия атомов; ощущение того, насколько это поразительно и удивительно. Я чувствовал, что это ощущение благоговейного страха – научного восхищения – можно передать через рисунок другому человеку, который тоже испытывает такую эмоцию. Эта картина могла бы напомнить ему, хоть на мгновение, о чувстве, которое вызывают у него богатства Вселенной.
Джерри оказался хорошим учителем. Прежде всего он велел мне пойти домой и что-нибудь нарисовать. Тогда я попытался нарисовать ботинок; а потом цветок в горшке. Вышла каша!
Когда мы встретились в следующий раз, я показал ему свои пробы. «О, посмотри-ка! – сказал он. – Видишь, вот здесь, стебель цветка не касается листка». (Я, конечно же, пытался нарисовать так, чтобы он касался.) «Это очень хорошо. Именно так можно показать глубину. Ты здорово это придумал».
– Очень хорошо также и то, что ты не рисуешь все линии одинаковой толщины (что я, конечно же, сделал ненамеренно). Рисунок, нарисованный линиями одной толщины, скучен.
Все продолжалось в том же духе: все, что мне казалось ошибкой, он использовал для того, чтобы научить меня чему-то положительному. Он никогда не сказал, что это неправильно; он ни разу не принизил меня. Поэтому я продолжал свои попытки, и мало-помалу у меня начало кое-что получаться, но я по-прежнему не чувствовал удовлетворения.
Чтобы получить больше практики, я также записался на заочный курс в Международной заочной школе и должен признать, что курс был хорошим. Первым делом меня начали учить рисовать пирамиды и цилиндры, штриховать их и т.д. Мы охватили многие области искусства: рисование карандашом, пастелью, акварелью и маслом. Почти в конце курса я исчез: я нарисовал для них картину маслом, но так и не отослал ее. Они продолжали писать мне, уговаривая продолжить обучение. Они очень хорошо отнеслись ко мне.
Я постоянно упражнялся в рисовании карандашом, и мне это очень нравилось. Находясь на каком-нибудь бессмысленном собрании – вроде того, когда в Калтех приехал Карл Роджерс, чтобы обсудить с нами, должен ли наш институт развивать кафедру психологии, – я рисовал других людей. Я носил с собой небольшой блокнот и рисовал везде, куда бы ни отправился. Таким образом, я, как и учил меня Джерри, работал очень упорно.