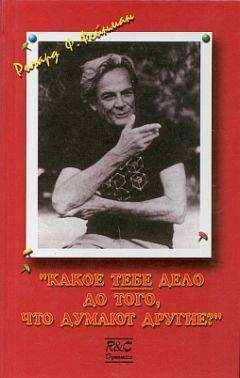Однако Джерри, с своей стороны, не особо старался выучить физику. Он слишком легко отвлекался. Я пытался научить его чему-нибудь, связанному с электричеством и магнетизмом, но как только я произносил слово «электричество», он рассказывал мне о каком-нибудь имевшемся у него нерабочем двигателе и начинал расспрашивать о том, как его починить. Когда я пытался показать ему принцип действия электромагнита, сделав из проволоки небольшую пружинку и подвесив на веревочке гвоздь, я подавал напряжение, под действием которого гвоздь проскальзывал в пружинку, а Джерри говорил: «Ух ты! Похоже на занятие любовью!» Этим все и кончилось.
Теперь у нас возник новый спор: является ли он лучшим учителем, чем я, или я – более прилежный ученик, чем он.
Я отказался от мысли попытаться помочь художнику оценить то чувство, которое я испытываю по отношению к природе, чтобы он передал его в картине. Теперь мне нужно было удвоить свои усилия, пытаясь научиться рисовать, чтобы самому передать это чувство. Это было весьма амбициозное предприятие, и я никому не рассказывал о своей идее, потому что по-прежнему оставались шансы, что я никогда не смогу сделать это.
На начальном этапе моего обучения рисованию, одна моя знакомая увидела мои попытки и сказала: «Сходи в Художественный музей Пасадены. Там проводят уроки рисования с натурщицами – обнаженными натурщицами».
– Нет, – сказал я, – я еще недостаточно хорошо рисую: мне будет очень не по себе.
– Ты вовсе не так плох; посмотрел бы ты на некоторых других!
Итак, я набрался мужества и все-таки пошел туда. На первом занятии нам рассказали о газетной бумаге – об очень больших листах, размером с газету, бумаги низкого качества – и разных карандашах и угле, которые мы должны приобрести. На второе занятие пришла натурщица и начала с десятиминутного сеанса.
Я начал рисовать натурщицу, и к тому моменту, когда я нарисовал одну ногу, десять минут закончились. Я огляделся и увидел, что все остальные уже нарисовали полную картину, даже затушевали фон: в общем, успели сделать все.
Я понял, что это мне не по зубам. Однако в конце занятия натурщица собиралась позировать в течение тридцати минут. Я трудился изо всех сил и, приложив неимоверные старания, я сумел нарисовать ее силуэт. На этот раз у меня была хоть какая-то надежда. Поэтому я не закрыл свой рисунок, как поступал со всеми предыдущими.
Мы пошли смотреть, что сделали другие, и я обнаружил, на что они были способны в действительности: они нарисовали натурщицу со всеми подробностями и тенями, записную книжку, которая лежала на скамейке, где она сидела, платформу, все! Все они делали шк-шк-шк-шк углем, все вокруг, и я понял, что это безнадежно – совершенно безнадежно.
Я возвращаюсь на свое место, чтобы закрыть свой рисунок, состоящий из скопления нескольких линий в левом верхнем углу листа – до того времени я рисовал только на листочках из блокнота размером 11х27 см, – но рядом стоят некоторые другие студенты. «Посмотрите-ка на это, – говорит один из них. – Здесь имеет значение каждая линия!»
Я не понял, что именно это означает, но этого было достаточно, чтобы я собрался с духом и пришел на следующее занятие. Тем временем, Джерри не переставал твердить мне, что слишком заполненные рисунки – далеко не так хороши. Его работа состояла в том, чтобы научить меня не переживать из-за других, а потому он говорил мне, что они не такие уж искусные.
Я заметил, что учитель не слишком распространяется по поводу нарисованного (он сказал мне только, что моя картинка слишком мала для такого листа). Вместо этого он пытался вдохновить нас на эксперименты с новыми подходами. Я подумал о том, как мы учим физике. У нас так много методик – так много математических методов, – что мы непрерывно рассказываем студентам о том, как и что делается. С другой стороны, учитель рисования боится рассказывать тебе что-либо. Если у тебя слишком тяжеловесные линии, он не может сказать: «У тебя слишком тяжеловесные линии», потому что какой-то художник нашел способ рисовать великие картины с помощью тяжеловесных линий. Учитель не желает толкать тебя в каком-то определенном направлении. Таким образом, перед учителем рисования стоит проблема, как научить студентов рисовать, следуя внутреннему побуждению, а не его указаниям, тогда как перед учителем физики всегда стоит проблема обучения методикам, а не духу, решения физических задач.
Меня все время просили «расслабиться», относиться к рисованию проще. Я подумал, что в этом не больше смысла, чем в том, чтобы убеждать человека, который только учится водить машину, «расслабиться» за баранкой. Это все равно не сработает. Расслабиться можно только тогда, когда точно знаешь, как это делать аккуратно. Поэтому я как мог сопротивлялся этой ерунде насчет «расслабиться».
Чтобы мы расслабились, нам предложили упражнение, когда нужно рисовать, не глядя на бумагу. Не своди глаз с натурщицы; просто смотри на нее и рисуй на бумаге линии, не глядя на то, что делаешь.
Один парень говорит: «Я не могу. Я должен подглядывать. Держу пари, что подглядывают все!»
– Я не подглядываю! – говорю я.
– А, чепуха! – говорят они.
Я заканчиваю упражнение, они подходят посмотреть на мой рисунок и обнаруживают, что я НЕ подглядывал; в самом начале кончик моего карандаша сломался, и на бумаге не осталось ничего, кроме отпечатков.
Заточив карандаш, я снова попытался сделать это и обнаружил, что в моем рисунке присутствует своего рода сила – странная сила, напоминающая ту, которая чувствуется в работах Пикассо, – и она пришлась мне по душе. Этот рисунок мне понравился еще и потому, что я знал, что рисовать хорошо таким образом невозможно, а потому рисунок не должен был получиться хорошим – в этом, как оказалось, и была суть расслабления. Я думал, что «расслабься», значит «рисуй небрежно», а на самом деле оно значило расслабиться и не беспокоиться о том, что получится в конечном итоге.
Занимаясь в этом классе, я достиг определенных успехов и чувствовал себя довольно уверенно. До самого последнего занятия все натурщицы, которых мы рисовали, были довольно полными и бесформенными; рисовать их было очень интересно. Но на последнее занятие в качестве натурщицы пришла симпатичная идеально сложенная блондинка. Именно тогда я обнаружил, что по-прежнему не умею рисовать: я не сумел добиться ничего, что хоть сколько-то напоминало бы эту красавицу! С прежними натурщицами, даже если нарисуешь что-то немного больше или немного меньше, разницы особой не было, потому что формы-то все равно нет. Но когда пытаешься нарисовать что-то, что так хорошо смотрится вместе, то обмануть себя не удается: все должно быть точно так, как оно есть!
Во время одного перерыва я подслушал, как один парень, который действительно умел рисовать, спрашивает у натурщицы, не согласится ли она позировать для него отдельно. Она согласилась. «Хорошо. Но у меня еще нет студии. Сначала я должен уладить этот вопрос».
Я понял, что многому могу научиться у этого парня и что если я сейчас ничего не сделаю, то у меня больше никогда не будет возможности нарисовать эту симпатичную натурщицу. «Извините меня, – сказал я ему, – в моем доме на первом этаже есть комната, которую можно использовать в качестве студии».
Оба согласились. Я показал несколько рисунков этого парня моему другу Джерри, но тот ужаснулся. «Это вовсе не такие уж хорошие рисунки», – сказал он, потом попытался объяснить, почему, но я так и не понял.
До тех пор пока я не начал учиться рисованию, я никогда особо не любил разглядывать картины. Я не слишком ценил искусство, и лишь изредка восторгался им, как это случилось однажды в японском музее. Я увидел картину, написанную на коричневой бумаге, сделанной из бамбука, и мне в ней понравилось именно то, что она представляла собой нечто среднее между несколькими мазками кисти и бамбуком – я мог заставить ее перемещаться взад-вперед, настолько уравновешена она была в своем положении.
Летом, после окончания курса рисования, я отправился на научную конференцию в Италии и подумал, что неплохо было бы увидеть Сикстинскую капеллу. Я приехал туда очень рано утром, купил билет раньше всех и, как только она открылась, побежал вверх по лестнице. Благодаря этому, я получил необычайное удовольствие оттого, что мне на мгновение удалось увидеть всю капеллу и замереть в немом благоговении прежде, чем туда войдет кто-то еще.
Вскоре пришли туристы, вокруг образовались толпы людей, которые говорили на разных языках, показывая то на то, то на это. Я хожу вокруг, поглядывая на потолок. Потом мой взгляд спустился немного ниже, я увидел большие картины в рамах и подумал: «Ух ты! Я о них и не знал».
К сожалению, я оставил свой путеводитель в отеле, но про себя подумал: «Я знаю, почему эти панно неизвестны; они просто-напросто плохи». Но тут я посмотрел на другое панно и сказал: «Вот это да! Это хорошее». Я посмотрел на все остальные. «Это тоже хорошее, и это, а вот то вшивое». Я никогда не слышал об этих панно, но решил, что все они хороши, кроме двух. Потом я отправился в зал, который назывался Sala de Raphael – Комната Рафаэля, – и заметил то же самое. Я подумал про себя: «Рафаэль непостоянен. Он не всегда преуспевает. Иногда он очень хорош. А иногда создает всякую ерунду».