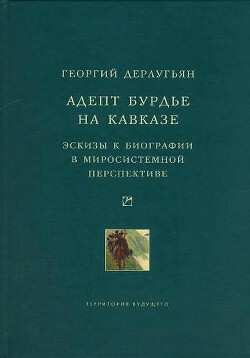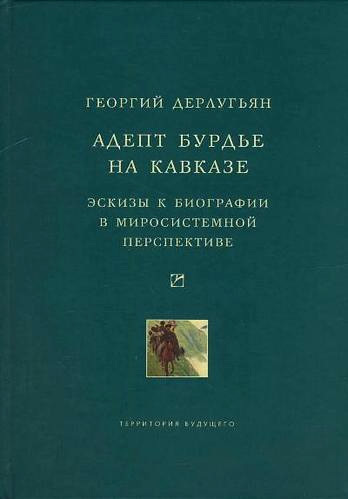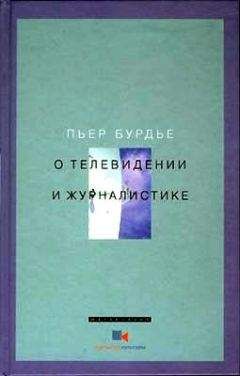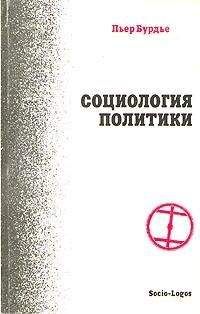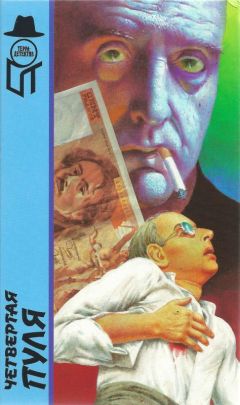И все же, [даже после всех высказанных здесь сомнений и предупреждений], мне видится невероятным, что приложение систематического умственного усилия к улучшению нашей жизни может, быть остановлено.
Артур Стинчком, «О слабоумии в футурологии» (Arthur Stinchcombe, «On Softheadedness on the Future» Ethics 93, October 1982, p. 118)
«История жизни этого человека местами просто до боли похожа на то, что происходило с интеллигенцией Латинской Америки в XX в.» – покачал головой мой аргентинский друг, прочитав рукопись этой книги. Другой социолог, который с мрачным упорством продолжает называть себя югославом и только югославом, заметил: «В наших войнах таких шанибовых можно было встретить на каждом фронте, со всех сторон». Антрополог из Норвегии, который большую часть своей жизни посвятил изучению Судана и Йемена, высказался так: «Очень похоже на то, что я изучаю, только у вас в СССР все оказалось перемешано и спрессовано во времени. Три поколения тому назад молодые образованные арабы выступали против существовавшей властной иерархии с позиций технической вестернизации, u либерального конституционализма; в следующем поколении борцы за перемены принимают идеи революционного национализма u марксизма; сегодня те же самые активисты уже будут скорее сторонниками исламского возрождения, выступающими против морального разложения, коррумпированности арабских правителей и их прислуживания Соединенным Штатам». Итак, траектория жизни Мусы-Юрия Шаниб(ов)а, очевидно, перекликается со множеством подобных историй современных интеллектуалов из стран так называемого Третьего мира или сегодняшнего мирового Юга. Однако насколько достоверны эти сравнения? Иначе говоря, помогает ли извилистая биография Шанибова лучше понять масштабные исторические сдвиги? И что это за сдвиги, каковы могли быть объясняющие их теоретические модели?
Ответы на подобные вопросы нуждаются в дисциплинированных обобщениях. Теперь нам предстоит предпринять последнее усилие, чтобы выйти на уровень более абстрактных и потому применимых на миросистемном уровне обобщений. Попытаемся в заключительной главе сплести воедино отдельные нити повествования и посмотрим, удастся ли извлечь из поучительной истории Шанибова и всего советского исторического опыта какие-то нетривиальные подходы к изучению истории современности (поскольку тривиальных мнений об СССР или национализме и исламе и без нас хватает). Выстроенные с толком обобщения помогают избежать искусственных и ложных сравнений. Еще важнее, именно обобщения указывают, в чем искать сравнения, возможно являющиеся истинными, и в то же время неизменно остающимися частными в море эмпирического своеобразия, ибо совершенно прямых параллелей в сложном социальном мире найти невозможно. В конце концов, Китай определенно не похож на Россию, а Россия – на Бразилию, Турцию или Южную Африку. Однако при взгляде под определенным углом мы можем обнаружить неожиданные и вероятно многое разъясняющие частичные тождества [357]. Источник света, который позволяет разглядеть элементы сходства и понять их смысл, и есть социальная теория.
В данной книге был использован эвристический, т. е. сознательно лишь временный вариант теоретического синтеза. Более широкая и устойчивая объяснительная теория может быть разработана в будущем и только путем совместного междисциплинарного труда. К тому, собственно, и призыв. Целью было обозначить и в деле показать, при помощи каких теоретических средств можно раскопать сложную эмпирическую реальность, скрывающуюся за штампами «тоталитаризма», «посткоммунистического переходного периода», «несостоявшихся государств», «реформ», «этнополитики» или «глобализации». Эта книга представляет собой нечто вроде предварительного археологического раскопа. По мере своих сил, я вырыл длинную узкую траншею поперек наиболее многообещающего участка, чтобы вскрыть стратиграфию исторических слоев, выявить скрытые под землей структурные «постройки» и предложить направления для более подробных раскопок. Однако недавнее советское прошлое не просто скрыто под толщей наносов, и одними раскопками тут не обойтись. Необходимо убрать толстый слой идеологической пыли, обволакивающей место обрушения.
Встает два препятствия. Первым является элементарная нехватка эмпирических знаний. Коммунистическая номенклатура прятала данные в закрытых архивах, ложно интерпретировала их, либо вообще избегала предавать бумаге все то, что выдавало вопиющее несоответствие между заявленными идеологическими установками и реалиями ее правления. Но с наступлением гласности архивы стали открываться, исследователям удалось еще застать немало очевидцев, на свет появилось уже немало добросовестных и достоверных работ о ходе и характере прошлых событий. Это проблема формальной цензуры, что сегодня так или иначе вполне решаемо. Куда более трудная проблема имеет скорее эпистемологический характер. Она относится к самим структурам научного знания, которые организуют профессиональные исследования, генерируют их тематику, язык и концепции, а также предписывают конвенциональные канонические подходы к изложению и интерпретации результатов работ. Эти структуры знаний уходят корнями в конец XIX в. (не так уж и давно), когда социальная наука, особенно четко в англо-американской университетской среде, оказалась институционализирована в ряде совершенно отдельных предметов и дисциплин со своими факультетами и рабочими местами, признанными профессиональными журналами и конференциями. Экономисты внушительно предъявили права на интеллектуальную монополию в моделировании процессов материального производства и денежного обмена, политологи пытались формализовать действия политических властей в «среднесрочных» теориях, историки сосредоточили внимание на пригодных для их целей документированных отрезках прошлого, а мы, социологи, как интеллектуально наиболее многообразное скопище, попытались подобрать оставшееся.
Более того, установленные столетие назад структуры социально-научного знания оказались закреплены и подперты мощными двоичными идеологиями, доставшимся нам от периода великой «холодной войны». Речь о противопоставлении тандема либерализма и консерватизма их политическим оппонентам, до недавнего времени представленным марксистскими течениями различного толка. Идеологическое противостояние «капитализма и социализма» уходит корнями не в символические даты 1945 и 1917, но значительно глубже, еще ко временам общеевропейской революции 1848 г. Эта бинарная оппозиция заложена в самой сердцевине того, что получило название эпохи модернизма и модернизации. Советский Союз, конечно, воплощал один из геополитических и идеологических полюсов великого противостояния. В отношении к такому материалу особо сильны пристрастия времен великой «холодной войны» (ныне приобретшие форму торжествующей консервативности и едва не экзистенциального отчаяния «левых»),
В завершающей главе я попытаюсь представить поочередно три разъяснения. Во-первых, попытаемся поместить советский опыт в наиболее широкую миросистемную перспективу. Вопрос здесь следующий: как соотносился с мировыми трендами советский вариант социализма, как он зародился, развивался и чем завершился? Во-вторых, надо выявить синтезированный в ходе работы теоретический подход, складывающийся на основе исследования отдельной жизни Шанибова и выпавших на его долю исторических событий. Вопрос можно сформулировать следующим образом: какие именно теории помогают нам рационально изучить микросоцологический объект, например (и не менее как) судьбу отдельного человека, в увязке с глобальной трансформацией? Наконец, я дерзну обозначить возможные параметры будущего. Если ретроспективные обобщения первых двух разделов являют собой различные виды воображаемой карты (одна – исторически изменчивая карта-схема СССР в координатах всей миросистемы, другая – карта течений в поле современного научного производства), то моя гипотеза о будущих возможностях относится скорее к тому, что Перри Андерсон называем интеллектуальным компасом [358]. В начале нового столетия мы оказались перед лицом громадных и неочевидных по возможным последствиям дилемм теоретического, политического и, наконец, морального свойства. Относительно маленький Кавказский регион миросистемы являет всего лишь один, но удручающе выраженный пример дилеммы, которая представляется нам под такими знакомыми названиями, как этнический конфликт, коррумпированное правление, затяжной экономический спад, новые (и старые) эпидемические заболевания, невосполнимый ущерб окружающей среде, международный терроризм, организованная преступность, массовый исход беженцев, или же новая волна расизма, направленного против народов и культур (особенно мусульманских) глобального Юга. Все это, однако, производные устойчивого социального распада, который охватил огромные области миросистемы, угрожает дальнейшим распространением и проникновением даже в зоны собственно ядра. В такие времена расширение рамок видения реальных возможностей – реальных настолько, насколько мы можем логически обоснованно, на основе достигнутых теоретических знаний показать последовательность социальных механизмов для осуществления этих возможностей – становится столь же необходимой частью научного процесса, как и сугубо профессиональная работа по совершенствованию наших теорий.