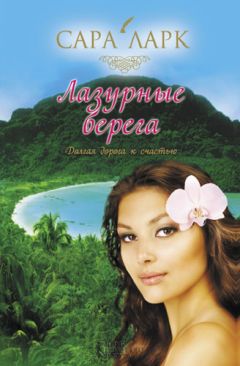Весной 2001 года европейский Центральный Банк в очередной раз отказался понизить учетные ставки, тем самым подтвердив приверженность сильному евро– любой ценой. И в самом деле к середине 2002 года европейская валюта начала быстро «набирать вес» по отношению к доллару. Увы, это сопровождалось углублением социального кризиса, падением популярности правительств и растущим неприятием новых денег. Летом 2002 года в Германии магазины даже стали вновь выставлять ценники в уже отмененных, но привычных немецких марках.
Парадоксальным образом ценой, которую придется заплатить за «сильную европейскую валюту», вполне может стать развал единого экономического пространства и в конечном счете крах евро. Единственная надежда для европейского проекта состояла в том, что кризис приведет к стихийному снижению курса доллара и росту инфляции в США. Однако и это не предвещало счастливого будущего евро. В данном случае европейский Центральный Банк получал возможность снизить учетные ставки и реально «отпустить» инфляцию, тем самым «притормозив» эскадру, дав возможность подтянуться отстающим. И все же это было весьма далеко от первоначальных амбициозных планов европейских элит. Вместо того чтобы приближаться к своим стратегическим целям, они теперь должны думать исключительно о сведении к минимуму ущерба от собственных прежних решений.
История знает множество случаев долгового закабаления свободного производителя, занимавшего «среднее место» в социально-экономической иерархии общества – начиная от древнеримского крестьянства, кончая европейской мелкой буржуазией и частью белых поселенцев в Карибской Америке XVII века. В этом плане драма, переживаемая американскими средними слоями в начале XXI века, далеко не уникальна. Подобные долговые кризисы со времен античности сопровождались резким ростом социальной напряженности и появлением популистских движений. Дальнейшее развитие событий зависело от соотношения политических сил. Если популизм терпел поражение, то средние слои теряли свой статус, независимость, имущество, а порой и личную свободу, превращаясь в рабов или пролетариев. Если, напротив, они одерживали победу, то финансовый капитал не только должен был нести колоссальные убытки, но и утрачивал изрядную часть своего влияния в обществе.
Такая же точно борьба неизбежно должна будет развернуться в западных странах. На первых порах она, скорее всего, примет форму борьбы вокруг проблемы инфляции.
В период роста «верхняя» (биржевая) и «нижняя» (долговая) пирамиды уравновешивали друг друга. Падение биржевой пирамиды дестабилизировало долговую, изменив соотношение сил и настроения в обществе. Мало того что значительная часть средних слоев оказалась объективно заинтересована в инфляции как последнем способе снижения долгового бремени, но и конъюнктурный союз между финансовым капиталом и производственным сектором распадается. Если в период высоких биржевых котировок производственный сектор видел в финансовом капитале локомотив развития, то теперь он видит в нем же источник своих проблем. А финансовый капитал, в свою очередь, стремится компенсировать свои потери за счет выколачивания долгов из производственного сектора. Характерной особенностью «новой экономики» было сочетание сравнительно невысоких зарплат с возможностью участия в прибыли. Крах биржевой пирамиды привел к тому, что связь между сотрудниками и реальными собственниками предприятий была подорвана, а «белые воротнички», чувствовавшие себя почти хозяевами на своем рабочем месте, оказались поставлены в положение пролетариев (если они вообще сохранили работу). В итоге «новая экономика» оказывается обречена на такой же классовый конфликт, как и «старая». Работники начинают нуждаться в повышении зарплаты и понимают, зачем существуют профсоюзы.
Мало того что финансовый капитал и его последний надежный союзник в лице топливно-энергетического комплекса вынужден отражать атаки все большего числа противников, инфляционное давление возрастает объективно. После того как второй нефтяной шок высвободил избыточные финансовые ресурсы и бросил их на рынок, правительства оказались перед дилеммой: либо смириться с инфляцией и управлять ею, либо из последних сил противостоять ей, одновременно сталкиваясь с возрастающим недовольством ранее лояльных слоев населения. Выиграть в этой борьбе невозможно, но признание этого означало бы принципиальный разрыв и с неолиберальной моделью, и с теми группами финансового капитала, которые определяли курс правительств, независимо от партийной принадлежности, на протяжении последних десяти лет.
Неолиберальная экономическая модель не обещала социальной справедливости. Но она обещала экономический рост. Придворные эксперты терпеливо втолковывали публике, что именно рост экономики является предпосылкой преуспеяния. Ради роста производства придется многим пожертвовать: неравенство увеличится, придется платить за то, что раньше доставалось бесплатно, нужно будет больше и лучше работать. Но жертвы окажутся не напрасными, послушание и усердие будут вознаграждены. В конечном счете свободная торговля и приватизация ускорят экономический рост, а экономический рост рано или поздно сделает богатыми всех. Или почти всех. Или, по крайней мере, даст шанс многим.
В начале 1990-х годов это звучало убедительно. Разумеется, рост производства сам по себе не является гарантией более справедливого распределения. Но трудно спорить с тем, что в динамично развивающемся и растущем обществе решать социальные проблемы легче, нежели в обществе, экономика которого находится в упадке. Беда лишь в том, что неолиберальная модель оказалась не в состоянии обеспечить экономический рост.
Результаты двух последних десятилетий XX века оказались плачевными. Система свободной торговли оказалась не в состоянии ускорить рост производства. Экономический рост в большинстве стран был существенно ниже, чем в 1960-е годы, когда государственное регулирование, по мнению неолиберальных экспертов, сдерживало предпринимательскую инициативу и подрывало стимулы к труду.
Особенно тяжелым оказалось положение стран капиталистической периферии. «Для этих государств, – пишет американский экономист Марк Вайсброт, – две последние декады XX века были временем самых больших хозяйственных неудач со времен Великой депрессии. Только подумайте: доход на душу населения вырос в Латинской Америке на 65 % между 1960 и 1980 годами. Между 1980 и 2000 гг. он вырос всего на 7 % или, можно сказать, вообще не вырос. В Африке дела пошли еще хуже – там доход упал примерно на 15 % на душу населения». В свою очередь, азиатские страны, где сохранялось жесткое государственное регулирование, а правительства не торопились приватизировать свою собственность, продолжали расти. Наиболее впечатляющие результаты показывали Китай и Вьетнам, где, несмотря на рыночные реформы, государственное вмешательство в экономику было наиболее значительным. Напротив, страны Азии, которые под влиянием «Вашингтонского консенсуса» начали либерализацию экономики, столкнулись к концу десятилетия с наибольшими трудностями. «До 1980-х годов, – продолжает Вайсброт, – считалось нормальным, что страны с низким и средним доходом вырабатывают собственную стратегию развития. Теперь от этого отказались в большинстве случаев во имя набора готовых рецептов, включающих либерализацию торговли и финансовых потоков, приватизацию государственных предприятий и других видов дерегулирования. Эта политика, получившая название «Вашингтонского консенсуса», сначала плохо работала, а в последние годы привела к целой череде катастроф. Азиатский экономический кризис 1998 года, например, последовал за притоком «горячих денег» на либерализованные азиатские финансовые рынки. За этим последовали финансовые кризисы в Мексике, России, Бразилии и Аргентине, подорвавшие мировой экономический рост».
Неприятности происходили всегда по одному и тому же сценарию, с готовностью повторяемому международными финансовыми институтами в каждой конкретной стране, а сами лидеры этих институтов все более напоминали русских литературных героев, спотыкающихся почему-то всегда «на одном и том же месте».
Для задыхающихся в условиях нищеты и экономической стагнации стран периферии образ преуспевающего Запада оставался последним оправданием проводимой политики. Собственные неудачи объяснялись местными условиями, некомпетентностью, коррупцией, никуда не годной традиционной культурой и обязательно нежеланием рабочих трудиться с достаточным энтузиазмом. Происходило это в странах, где люди давно уже трудились больше, чем их коллеги на Западе, и за несравненно меньшие деньги.
Для стран периферии Запад превратился в идеологическую утопию, образ счастливого будущего, образец для подражания. В свою очередь Европа смотрела на Америку, а Америка, любуясь дутыми финансовыми отчетами корпораций, внушала сама себе, что все идет нормально.