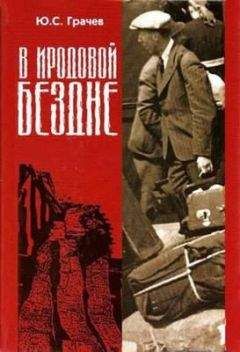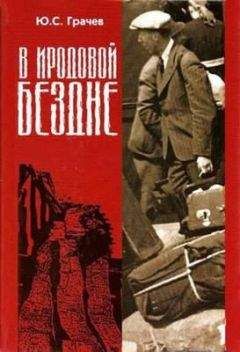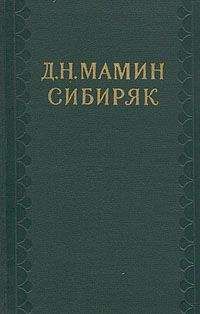Верующие, которые остались от старой самарской общины евангельских христиан-баптистов, а также от группы, которую возглавлял отступник Антон Максимович Зуйков, стремились иметь общение друг с другом и всячески поддерживали духовный огонь.
В Самаре появились так называемые пятидесятники. Представители этой секты открыто заявляли, что среди всеобщего разгрома и отступления настоящая истина и присутствие духа Божия только у них. Некоторые, даже старые верующие самарской общины, как, например, Василий Алексеевич Кузнецов и другие, и особенно те, кто увлекался проповедями Зуйкова, присоединились к пятидесятникам и почти не имели общения с остальными. Это было время духовного охлаждения, разброда и шатания.
На старинном Троицком базаре, где сохранилась еще церковная часовня, стали происходить собрания евангельских христиан-баптистов. Часовня была предоставлена властью для этих собраний. Вначале собрания в ней возглавляли самые невзрачные братья, но потом к ним стали присоединяться и бывшие видные труженики общины.
Многие недоуменно перешептывались:
— Как, почему были открыты эти собрания?
Когда Лева решил пойти в эту часовню, то некоторые предупреждали его:
— Будь осторожней. Это не что иное, как ловушка.
— Какая ловушка? — удивился Лева.
— А вот увидишь какая! — говорили ему и уходили, не объяснив ничего.
Но Лева все-таки решил пойти на это собрание, хотя он знал, что многие братья и сестры их не посещают.
Что представляла собой часовня? Это был обычный православный храм. Те же стены, тот же купол часовни. Только разные изображения святых замазаны, закрашены. Слабое электрическое освещение. Верх храма утопает в каком-то таинственном полумраке. Скамьи посетителей, как в молитвенном доме. Родное пение, оно ласкает сердце, невольно в душе встают воспоминания о старом молитвенном доме на Крестьянской улице. Там родное, близкое, а здесь что-то не то. Сердце невольно сжимается, ищет разгадки: что здесь? Да, здесь собирались старички и старушки. Вот преклонили колени, молятся. Те же молитвы, те же вопли к Богу, родные, близкие лица, но как мало собравшихся!
После открытия собрания, которое сделал брат Горин, тот самый, что в свое время вышел из общины и присоединился к Зуйкову. Все, вставши, спели гимн «Ближе, Господь, к тебе…». Лева пел со всеми. Он смотрел на серый каменный пол часовни и, вдохновляясь пением, поднимал голову выше, смотрел в окна, черные от наступившей ночи, и стремился всей душой уйти к горнему.
Говорил слово еще один брат. Молодежи не было видно. Вошла сестра с девочкой, которая пугливо озиралась на непривычную обстановку. Мать подтолкнула ее на первую скамейку, где сидела знакомая ей тетя. Девочка успокоилась, села рядом с ней и стала слушать.
А сколько детей верующих родителей и вообще детей этого города совершенно не слышали в эти годы ничего о Спасителе!
За стол вышел брат. Лицо Левы просияло. Это был дорогой Николай Александрович Левинданто. То, что он здесь, порадовало Леву. А когда Николай Александрович открыл Притчи Соломона, в те годы он увлекался ими и проповедовал из них, Лева с удовольствием слушал. Не только содержание проповеди, но и сама интонация голоса, сама речь проповедника напомнили ему те дивные собрания, когда выступали растущие силы и произносили огненные проповеди Петя Колесников, Ваня Бондаренко, Коля Левинданто и другие.
На этот раз в проповеди Левинданто не было огня, зато можно было подметить немалую склонность к размышлению, вернее — к резонерству.
«Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами, и притом глупый», — читал он из Притч (19 гл., 1 стих).
В эти годы, когда все, казалось, сводилось к борьбе против богатых, это не могло не отразиться и на том духовном движении, выразителями которого были баптисты. Так, незадолго до закрытия собраний в Москве у М. Тимошенко и у Павлова в молитвенном доме висел такой текст: «Как Библия относится к капиталу?»
И ответ: «Корень всех зол есть сребролюбие».
С названными двумя проповедниками близко дружил и Николай Александрович. Все они готовились сменить стариков — А. В. Одинцова, П.А Голяева и других — и хотели вести братство в современном духе. В этом особенно преуспел И. Бондаренко. Разложившись морально, он способствовал закрытию союза баптистов.
И вот теперь в своей проповеди Николай Александрович не преминул отметить разницу в положении богатых и бедных и подчеркнул, что богатые, как обычно, приобретая и увеличивая свои богатства, имеют лживые уста. Перед Богом же дорог человек, ходящий в непорочности, хотя бы материально он был и беден. Лева слушал и убеждался: да, голос Николая Александровича и его манера говорить были налицо, но содержание проповеди и сам дух проповедника были какие-то иные, словно он надел на себя маску.
После собрания приветствовались. Радостно смотрели на Леву старушки, они помнили его еще мальчиком, они молились за него когда он был в заключении. Братья также радостно целовали его но в отношении к нему многих Лева чувствовал какую-то сдержанность. Находились и такие, которые избегали смотреть ему в глаза.
К нему подошел Ваня Попов. Ростом выше Левы, худощавый, бодрый, он обнял его.
— Так ты вернулся с Соловков? — воскликнул Лева.
— Да, все мы вернулись, — радостно улыбаясь, сказал Ваня. — Господь сохранил и провел через все испытания.
— А я, когда посещал ссыльных и заключенных в Сибири, намеревался добраться до Соловков и повидать всех вас. Но не пришлось. Господь усмотрел и для меня узы.
— Слава Богу, что Он сохранил тебя. Ты так возмужал, вырос, — заметил Ваня. — Ну, пойдем. Ты видишь, братья к нам особенно не подходят, боятся: ведь мы из заключения.
Друзья вышли и медленно пошли по темной улице. Остановились у трамвайной остановки.
— Да, Лева, — сказал Ваня, — все изменилось, нет того огня, да и молодежь словно не та. Даже вот возьмите наши близкие: Петя Кузнецов, Клавдия Кабанова, Шура Кирюшкин, Шура Бондаренко. Все словно полузамерзшие… Но будем просить огня с неба.
— Да, да, будем, — с жаром подхватил Лева. — И не напрасно нас Господь вернул. Будем трудиться для Него.
Подошел трамвай, друзья расстались, Лева поехал домой.
Вечером он долго не мог уснуть. Думал он, однако, о том, что ему завтра предстоит устраиваться на работу, и возьмут ли его, где и как… Перед ним стояла часовня, а в ней Николай Александрович. Так ли все они проповедуют, так ли любят Господа, как прежде? Действительно, не ловушка ли это?
Лева отлично понимал, что все разговоры верующих, их настроение, их поведение контролируются специальными органами, и каждый, кто ревнует о деле Божием, находится на особом учете. Что касается его, Левы, то — проповедовать ли ему в этой часовне, как он раньше проповедовал на Крестьянской? Работать ли с молодежью, как раньше, и если да, то с чего начинать?
Прежде всего нужно собраться всем. Я расскажу им, что нужно жертвовать собой, сестрам — кончать медицинские курсы и ехать помогать всем заключенным, поддерживать страдающих в узах братьев и сестер.
Лева никак не думал, что наступает ночь, что уже темнеет. Он верил в великий расцвет дела Божия в России. Ведь все братья, которые были в узах, которых он опрашивал по анкете, отвечали, что еще будет пробуждение в России. Эта вера от Господа. Впереди не духовная смерть, но какое-то воскресение.
Так верилось, а внешних оснований к этому не было никаких. Ведь все направлено было — устная агитация, печать, административные меры — на искоренение так называемых религиозных «предрассудков».
Верующие уповали только на Бога.
«Устроивший все есть Бог»
Евр. 3, 5
Поле медицинской работы в Самаре было обширное. Но Леву, после того как он на Беломорском канале поработал с хирургом Троицким, больше всего тянула к себе хирургия. Он совсем забыл, что, когда впервые приступил к изучению медицины, он со страхом смотрел на хирургические инструменты и думал быть кем угодно, но только не хирургом. Теперь он был убежден, что именно хирургия помогает самым опасным больным и часто вырывает обреченных из объятий смерти.
Вблизи дома, в котором жил Лева, находилась большая старинная земская больница. Ее деревянные домики (так называемые бараки) утопали в зелени высоких тополей, осокорей. Когда-то она была построена на окраине Самары, за ней были молоканские сады, далее — поле золотистой пшеницы, а к Волге — монастырь, около которого образовался поселок; обыватели дали ему название — «Афон».
Теперь город разросся, на месте бывших молоканских садов возникли улицы с плодовыми насаждениями, а больница оказалась уже в глубине города. Вот туда-то и пошел Лева устраиваться на работу.