Солдат — заключенной
Много ль девочке нужно? — Не много!
Постоять, погрустить у порога,
Посмотреть, как на западе ало
Раскрываются ветки коралла.
Как под небом холодным и чистым
Снег горит золотым аметистом
И довольно моей парижанке,
Нумерованной каторжанке.
Были яркие стильные туфли,
Износились, и краски потухли,
На колымских сугробах потухли…
Изувечены нежные руки,
Но вот брови — как царские луки,
А под ними как будто синицы
Голубые порхают ресницы.
Обернется, посмотрит с улыбкой,
И покажется лагерь ошибкой,
Невозможной фантазией, бредом,
Что одним шизофреникам ведом…
Миру ль новому, древней Голгофе ль
Полюбился ты, девичий профиль?
Эти руки в мозолях кровавых,
Эти люди на мертвых заставах,
Эти, бьющиеся в беспорядке
Потемневшего золота прядки?
Но на башне высокой тоскуя,
Отрекаясь, любя и губя,
Каждый вечер я песню такую,
Как молитву, твержу про себя:
«Вечера здесь полны и богаты,
Облака, как фазаны, горят.
На готических башнях солдаты
Превращаются тоже в закат.
Подожди, он остынет от блеска,
Станет ближе, доступней, ясней
Этот мир молодых перелесков
Возле тихого царства теней!
Все, чем мир молодой и богатый
Окружил человека, любя,
По старинному долгу солдата
Я обязан хранить от тебя.
Ох ты время, проклятое время,
Деревянный бревенчатый ад!
Скоро ль ногу поставлю я в стремя
И повешу на грудь автомат?
Покоряясь иному закону,
Засвищу, закачаюсь в строю…
Не забыть мне проклятую зону,
Эту мертвую память твою;
Эти смертью пропахшие годы
Эту башню у белых ворот,
Где с улыбкой глядит на разводы
Поджидающий вас пулемет.
Кровь и снег. И на сбившемся снеге
Труп, согнувшийся в колесо.
Это кто-то убит „при побеге“,
Это просто убили — и все!
Это дали работу лопатам
И лопатой простились с одним.
Это я своим долгом проклятым
Дотянулся к страданьям твоим.»
Не с того ли моря беспокойны,
Обгорелая бредит земля,
Начинаются глупые войны
И ругаются три короля?
И столетья уносит в воронку,
И величья проходят, как сны,
Что обидели люди девчонку,
И не будут они прощены!
Только я, став слепым и горбатым,
Отпущу всем уродством своим
Тех, кто молча стоит с автоматом
Над поруганным детством твоим.
«О, для чего ты погибала, Троя…»
О, для чего ты погибала, Троя,
И выдуман был Одиссеем конь?
Каких изменников, каких героев
Испепелил бенгальский твой огонь!
Зачем не откупилася от тлена
Свечением своих бессмертных риз
Похожая на молнию Елена
И был забыт лысеющий Парис!
А может быть, влюбленные для вида,
Они милуются, обнажены,
Лишь на картине юного Давида
Две декорации с одной стены;
И юноша, исполненный отваги,
Лишь в те минуты юн и именит,
Когда в устах ослепшего бродяги
Его шальная молодость звенит.
Истлели все: и рыцари, и Боги,
Растертые в один летучий прах…
Пустынный вихрь ходит по дороге
И чью-то пыль вздувает в лопухах.
Гудит, гудит, расходится кругами,
Вновь возвращается на прежний путь…
И словно пыль скрипит под сапогами,
Мозг Одиссея и Елены грудь.
Но сброшенное волей бутафора
На землю, где убийство — ремесло,
Чудовищное яблоко раздора
За тысячелетья проросло.
И вот опять похищена Елена,
Да только чья Елена — не поймешь!
Опять сзывает хриплая сирена
Созревшую к убою молодежь.
Уступленная недругу без боя
И брошенная, как троянский конь,
Европа бедная, покинутая Троя,
Ты погибаешь, на коленях стоя,
Не испытав железо и огонь.
Владивостокская пересылка,
Вторая речка. Осень 1940 г.
«Генерал с подполковником вместе…»
Генерал с подполковником вместе,
Словно куры, сидят на насесте,
Взгромоздились на верхние нары
И разводят свои тары-бары,
Тары-бары, до верху амбары,
А товары — одни самовары.
Говорят о белом движеньи
И о странном его пораженьи,
О столах, о балах, о букетах,
О паркетах и туалетах.
Отягчен своей ношей костыльной,
Прохожу я дорогой могильной.
Боже правый, уж скоро полвека
На земле человек, как калека,
В Освенцимах при радостных криках
Истребляешь ты самых великих.
Ты детей обрекаешь на муки,
Ты у женщин уродуешь руки…
И спокойно колымская замять
Погребает их страшную память.
Не ропщу на тебя, но приемлю
Талый снег и кровавую землю.
Но зачем, о всевышний садовник,
Пощажен тобой глупый полковник?
В час, когда догорает эпоха,
Для чего ты прислал скомороха?
И я умел сажать Иуду
В ему принадлежащий ад,
И я не удивлялся чуду,
Которым женщину творят.
И все сминая, всем ликуя,
И я бывал в числе таких,
Что словно раковину морскую
Тугую створку рвут у них.
Но счастлив я, что к изголовью
Твоих, о ненависть! — могил
Со Всепрощающей Любовью
Я никогда не подходил.
Что все пройдя, все принимая,
И отрешенный от всего,
Я не искал иного Рая
Помимо Ада моего!
…Не сводя изумленного взора
И впадая почти в забытье,
Смотрит вор, как струится на вора
Золотое сиянье ее.
Улеглись лиловатые тени
Возле светом прорезанных глаз.
Ты ей дал тишину на мгновенье,
Но от смерти ее ты не спас.
Ты не спас ее ни от всезнанья,
Ни от добрых и слабых людей,
От томительного ожиданья
Возле чьих-то высоких дверей.
От приятной и колкой язвительности
Прокуроров и их секретарш,
От стыда, от позорной действительности,
Похоронный играющей марш!
От улыбочек: «Вы еще молоды!»
От советов: «А мненье мое
Выходили бы замуж, вы золото…»
От презренья и гнева — двух молотов,
Разбивающих сердце ее.
Отчего же ты не дал ей силу
Обнажающей мысли нагой?
Отчего, опускаясь в могилу,
Ты все щели закрыл за собой?
Ты ведь знал: жизнь голубит хорошеньких,
Но таких распинает она!
Что ж ты все улыбаешься, брошенка,
Опереточная жена?
«Больница. Черный каганец…»
Больница. Черный каганец
Все обливает желтым лаком.
Мне надоело наконец
По суткам говорить со всяким.
Подобный школьному ножу,
Я перегнулся и лежу.
А надо мной сидит старик
С лицом, приученным к обидам,
Он думает: а вдруг я выдам
Его кощунственный язык?
Старик, да будь же ты умней,
Не лезь, пожалуйста, в бутылку!
Спокойно ты поедешь в ссылку
Справлять столетний юбилей!
Но до возможности такой
Еще осталась четверть века:
Не мучай, дурень, человека,
Дай мне, пожалуйста, покой!
«Так мы забываем любимых…»
Так мы забываем любимых
И любим немилых, губя,
Так холодно сердцу без грима
И страшно ему без тебя…
В какой-нибудь маленькой комнате
В далеком и страшном году
Толкнет меня сердце: «А помните…»
И вновь я себя не найду.
Пойду, словно тот неприкаянный,
Тот жалкий, растрепанный тот,
Кто ходит и ищет хозяина
Своих сумасшедших высот.
Дойду до надежды и гибели,
До тихой и мертвой тоски,
Приди ж, моя радость, и выбели
Мне кости, глаза и виски!
Все вычислено заранее
Палатою мер и весов
И встречи, и опоздания,
И судороги поездов,
И страшная тихость забвения,
И кротость бессмертной любви,
И это вот стихотворение,
Построенное на крови…
«Есть дни — они кипят, бегут…»
Есть дни — они кипят, бегут,
Как водопад весной.
Есть дни, они тихи, как пруд
Под старою сосной.
Вода в пруду тяжка, темна,
Безлюдье, сон и тишь,
Лишь желтой ряски пелена
Да сказочный камыш.
Да ядовитые цветы
Для жаб и змей растут…
Пока кипишь и рвешься ты,
Я молча жду, как пруд!
(В карцере.)
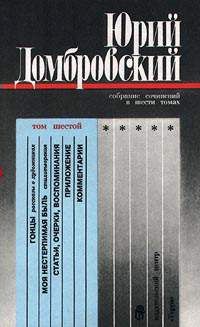
![BlackSpiralDancer - Unwritten [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)

