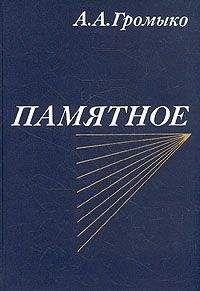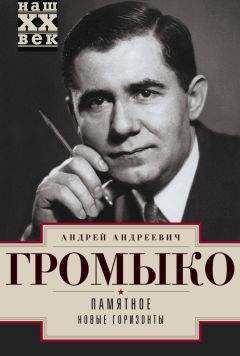— Да, — сказал Гопкинс, — я знаю; не все, что делала администрация Рузвельта, удовлетворяло Москву. Но затем все же дело выправилось: мы поставляли и военные самолеты, и грузовые автомашины, и морские суда, и немало продовольствия.
Вступать с ним в спор и что-то доказывать не хотелось. И без всяких доказательств и у нас в стране, и в США знали, что в самый тяжелый период Великой Отечественной войны — в ее первый год — США не поставили почти ничего, как бы выжидая, выстоит ли Советский Союз или нет. И только когда выяснили, что он выстоял — один на один, — только тогда начали постепенно осуществлять кое-какие поставки.
— Как-то так повелось в Вашингтоне, — говорил Гопкинс, — что до войны президент больше времени уделял внутреннему положению в стране. В ходе войны, особенно после нападения Японии на Перл-Харбор и вступления США в войну против Германии, он все больше стал задумываться над будущей обстановкой в мире и над вопросом отношений между нашими странами после окончания войны.
Он много знал, этот приближенный к Рузвельту политический деятель. И не скрывая, а, наоборот, гордясь своей близостью к вышке власти, Гопкинс рассказывал о президенте всякие подробности. Например:
— Раньше Рузвельт, как боец, несмотря на свой физический недуг, громил республиканцев. Они часто подставляли ему свои бока, ибо в тактике политической борьбы не могли соревноваться с президентом. А в накале страстей он допускал и резкости. Например, однажды он назвал республиканцев «конокрадами». Отвечая на их резкую реакцию, Рузвельт заявил: «Я вовсе не утверждаю, что все республиканцы являются конокрадами, я лишь утверждаю, что все конокрады являются республиканцами».
Гопкинс, рассуждая о Рузвельте как специалисте в области внутриполитической борьбы, перешел и к характеристике его взглядов в области внешней политики:
— С течением времени, дальше — больше, — заявил Гопкинс, — президента стали заботить и внешние дела. Он занимался ими намного активнее, чем ранее.
В свою очередь я вспомнил некоторые послания Сталина и при этом подчеркнул такую мысль:
— Скупые слова Сталина, обращенные к будущему наших отношений, не оставляют сомнений в том, что советское руководство стремится строить хорошие отношения с США, если и они этого хотят.
Гопкинс высказал свои мысли о будущем советско-американских отношений, не ссылаясь на прямое поручение Рузвельта. Зная Гопкинса, я испытывал уверенность, что его мысли — это мысли президента. В этом приходилось убеждаться всегда — и раньше, и позже.
Так состоялся один из последних наших разговоров с Гопкинсом.
Конечно, душой и телом он был предан капиталистическим порядкам, американской демократии. И в вопросах идеологических он оставался представителем своего класса. К тому же к разговорам о теории он вкуса не испытывал.
Однако этот внешне хилый человек вершил большие дела, как доверенное лицо Рузвельта и как патриот, на пользу развития советско-американских отношений в годы войны, а значит, и во имя великой Победы над фашизмом.
Политические взгляды Гопкинса во многом разделял Генри Моргентау, занимавший пост министра финансов. У меня сложились отличные отношения с этим деятелем рузвельтовского направления. Не раз я убеждался, что мысли, которые он высказывал в ходе наших бесед, тоже отражали мнение президента. Да и сам Моргентау этого не скрывал.
Особенно смело министр финансов рассуждал о послевоенном устройстве мира.
— Германия, — говорил он, — должна быть лишена возможности вновь встать после окончания войны на путь агрессии. Хватит тех преступлений, которые она совершила при Гитлере. И наши и ваши люди впредь не должны этого допускать.
Он не считал, что такой курс политики встретит сопротивление в США со стороны каких-либо влиятельных кругов.
— Военные, — утверждал он, — настроены довольно решительно. Американский бизнес — тем более. Ведь он не заинтересован в существовании сильного конкурента на международном рынке.
Остается большой загадкой, почему министр делал такие категорические высказывания. Ведь в его обязанности входило знать, что на протяжении всей войны американские монополии своими капиталами помогали германской промышленности производить оружие для гитлеровской армии.
Многие факты, которые свидетельствовали об этом, выплеснулись на страницы печати сразу же после окончания военных действий и капитуляции Германии. Трудно допустить, чтобы до моего собеседника никаких сведений в этом плане не доходило в годы войны. Но с другой стороны, тайники политики США в военное время оказывались порой настолько труднодоступными, что многие, даже высокопоставленные деятели администрации, не представляли себе масштабов сотрудничества американского и германского капиталов в годы войны. Неудивительно поэтому, что расследование фактов такого сотрудничества, начатое было конгрессом после окончания войны, сразу же было свернуто. Вполне вероятно, что и Моргентау не представлял себе масштабов сотрудничества американских и германских монополий в военное время. По поводу будущего Германии Моргентау рассуждал так:
— Наиболее надежным путем предотвратить агрессию в Европе было бы расчленение Германии и даже переселение определенной части ее населения в иные районы мира, например в Северную Африку.
Правда, каждый раз он делал при этом оговорку:
— Сам президент еще не рассматривал этого плана по существу, хотя и знает, что такие идеи есть.
Моргентау стоял, пожалуй, на самых радикальных позициях в отношении решения судьбы Германии после окончания войны. Однако, во что конкретно предстояло вылиться такому решению, никто до Потсдама точно и авторитетно сказать не мог. Даже Рузвельт не спешил с определением окончательной позиции. Тем более что отнюдь не по всем вопросам, связанным с судьбой побежденного врага, у союзников вырисовывались одинаковые взгляды.
Весьма близким человеком к Рузвельту считался и Гарольд Икес — министр внутренних дел. Мои контакты с ним оставались все время также дружественными и полезными.
Гопкинс, Моргентау и Икес, являвшиеся авторитетными деятелями, решительно высказывались, как и Рузвельт, в том духе, что различия в социальном строе СССР и США не должны служить барьером, препятствующим сотрудничеству двух стран в борьбе против общего врага и потом, после победы над ним, в строительстве мирной жизни и добрых отношений между союзниками.
Последующие события, особенно послевоенных лет, подтвердили, что взгляды, которые определяли направление такой политики Рузвельта и его администрации, отвечали интересам американского народа.
Совсем иная политическая стратегия появилась в годы «холодной войны», когда администрация США стала исповедовать культ грубой силы и гонки вооружений.
Как-то осенью 1941 года состоялась у меня беседа с известным в политических кругах Вашингтона деятелем Гарри Декстером Уайтом. Министром финансов тогда был Генри Моргентау, а Уайт — его первым заместителем. Встретились мы в советском посольстве.
В самом начале беседы Уайт сказал:
— Все, что я скажу вам, представляет не только мнение Моргентау, но и президента Рузвельта.
Тем самым он дал понять, что имеет поручение от правительства, и добавил:
— Президент с министром не просто друзья, но и политические единомышленники. Их связывает прочная дружба.
Уайт говорил довольно откровенно.
— Рузвельту, — сказал он, — импонирует тот факт, что Моргентау ни разу не подводил президента тем, что допускал разглашение информации о его позиции по важным вопросам политики.
Тут я заметил:
— Заранее очень ценю то, что вы намерены мне сказать о мнении Белого дома.
Тогда собеседник заявил:
— Президент Рузвельт был убежден, что рано или поздно гитлеровская Германия нападет на Советский Союз. Амбиции Гитлера хорошо известны. Внешняя экспансия, захват чужих земель, особенно на востоке от Германии, — об этом мечтало нацистское руководство. Белый дом знал и то, что в военном отношении Германия серьезно готовилась к агрессии. Тем не менее ее агрессия против Советского Союза, с точки зрения выбора момента, для американцев явилась неожиданностью. Правда, спецслужбы США предупреждали администрацию о возможности в скором времени такого нападения, но и они делали оговорки.
Уайт перевел дух, а затем продолжил:
— Одним словом, Рузвельт и его администрация оказались в состоянии растерянности, когда пришла весть о фашистском вторжении. Никто не брался предсказывать, как будут развиваться события. Перебирались разные варианты возможного хода военных действий на советско-германском фронте. Особенно активно анализировали ситуацию военные. Если сказать откровенно, то они, по крайней мере большинство их, не верили, да все еще и не верят, что ваша страна соберется с силами и устоит. А в голове у рядового американца не совмещаются мысль о быстром продвижении на восток гитлеровских армий с представлением об их возможном отступлении, а тем более поражении.