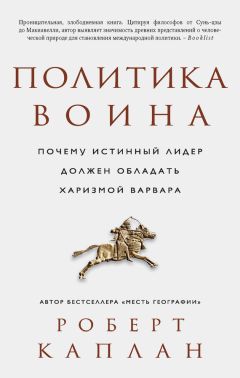Фукидид не закончил свое повествование, но во всей этой нестабильной сложности взаимосвязей просматривается одна смутная и невнятная тема: бесплодная победа Спарты, неспособной без помощи Персии сохранить новоприобретенную гегемонию над греческим архипелагом. В итоге Спарта превратилась в защитницу западного фланга непрочной и хаотичной Персидской империи [2].
Подобная смутная и невнятная тема возникает при объединении всех гипотез, возникших после завершения холодной воны. Вот один из сценариев:
Либеральная демократия торжествует во всех странах бывшего Варшавского договора за исключением России и одного-двух балканских государств. Она также торжествует в южной части Латинской Америки, на большей части Ближнего Востока и в некоторых других регионах. Тем не менее в большей части развивающихся стран демократия существует скорее на словах, чем на деле, часто принимая форму «гибридных» режимов. Мексика успешно проводит выборы, но испытывает трудности с созданием таких институтов, как полиция и надежная судебная система, что в результате приводит к почти неконтролируемым волнениям. Индия официально остается «страной демократического успеха», если не обращать внимания на реальное существование городских банд, управляемые выборы местной власти, растущую нехватку воды и бдительного правосудия. Безработная молодежь из городских трущоб стала для Индии и Мексики постоянной угрозой, приводящей к появлению переменчивых популистских движений. Тем не менее обе эти ущербные демократии живут и создают высокотехнологичную промышленность. Индонезии, Пакистану, Нигерии и другим странам везет меньше, хотя то, что там происходит, не попадает на первые полосы газет, как в случае с Сомали. Это просто более высокий уровень недовольства по сравнению с Индией и Мексикой. Повсюду заметна культурная, социальная, демографическая и экологическая напряженность.
Тем временем в Китае давление со стороны растущего городского среднего класса ведет к расширению демократии, порождающей насилие и этнический сепаратизм, осложненные нехваткой ресурсов. Тем не менее глобализация торжествует, хотя и сопровождается мощной обратной реакцией в виде популистских движений, распространившихся по всему миру. С другой стороны, богатые высокотехнологичные метроплексы, в которых тон задают глобальные корпорации со своей собственной политикой внешней торговли, становятся характерным явлением для юго-восточного Китая, Сингапура, реки Меконг, тихоокеанского Северо-Запада, Каталонии и других регионов [3]. Большой Бейрут, Большой Сан-Паулу и индийский Бангалор – процветающие города-государства, однако испытывающие трудности из-за большого количества бедноты. Власть корпораций и обитателей трущоб усиливается, власть традиционного государства ослабевает. Но в России, Китае, Индии, Пакистане и других местах государство дает им отпор, проводя безответственную политику и принимая программы вооружений.
В Соединенных Штатах самый сложный вопрос – не экономический спад, наступающий после многих лет беспрецедентного процветания, а напряженные отношения с Мексикой, возникающие в результате процветания и демократизации. Мексика становится гораздо демократичнее, но там по-прежнему царит беззаконие и не решаются проблемы с бедностью. Поскольку в Мексике демократия, Соединенные Штаты вынуждены относиться к соседней стране как к равной, хотя законно избранное мексиканское правительство, уступая популистскому нажиму, выдвигает требования, которые Соединенные Штаты не могут удовлетворить. Два чрезвычайно неравных общества интегрируются с головокружительной скоростью. В долгосрочной перспективе это позитивный процесс, но в краткосрочной ситуация становится кризисной и по обе стороны границы возникают волнения. Все проблемы объединяющегося мира, позитивные и негативные, креативные и деструктивные, включая демократизацию и столкновение цивилизаций, проявляются в этой бурной исторической консолидации Мексики и США.
В Черной Африке, наряду с некоторыми частями Ближнего Востока и Южной Азии, где до 2050 г. предполагается самый значительный прирост населения, силовые конфликты определяют ход событий так же, как в Европе XX в. [4]. В то же время распространение анархии в развивающихся странах оказывает давление на мировые элиты в сторону укрепления и расширения международных институтов. Мировое правление становится реальностью, но это не ведет к формированию мирового правительства. Левиафан, возникающий из тумана всех войн, хаоса и наглухо закрытых зон процветания, все еще слабый и несовершенный. Тем не менее раньше ничего подобного не существовало.
XXI в. оказывается почти таким же жестоким, как и XX. Из-за исчезновения национальных государств, расцвета городов-государств и множества перекрывающихся и неформальных суверенных образований торжествует мягкий феодализм. Но, поскольку большее количество лучше организованных международных институтов расширяет масштаб наказания несправедливости, разрыв между моралью «для внутреннего употребления» и моралью для международных отношений сокращается. Этот мир не менее, но и не более единый, чем древняя Персидская империя. Чем внимательнее мы всматриваемся в Античность, тем больше узнаем об этом новом мире.
Шумерские города-государства 3-го тысячелетия до н. э. в Месопотамии, ранняя империя Маурьев IV в. до н. э. в Индии, ранняя империя Хань II в. до н. э. в Китае – все это примеры политических систем, в которых разнообразные и разбросанные территории эффективно взаимодействовали друг с другом благодаря торговле и политическим альянсам, что позволяло регламентировать поведение и устанавливать схожие нравственные стандарты [5]. Вместо raison d’état там существовали raison de systéme[9] – убеждение, что работающая система представляет собой высшую форму нравственности, поскольку альтернативой ей является хаос. Страх насильственной смерти, как позже объяснит Гоббс, заставлял людей отказываться от части своей свободы ради порядка, что приводило к весьма слабому и смутному империализму.
Древние шумеры, в отличие от Египта с его фараонами, не создали единой империи. У них существовали по крайней мере двенадцать независимых укрепленных городов на юге Месопотамии, близ Персидского залива, – Ур, Киш, Урук, Ниппур, Лагаш и др., каждый со своими особенностями, коммерческой жизнью, своим правителем и стратегическими интересами. Объединяли их общая культура и язык. Возникали неизбежные споры по поводу воды, земли и правил торговли. Но решением проблемы оказался не абсолютизм, как в Египте, и не полная независимость, существовавшая в отношениях между шумерами и соседними с ними народами, а система, которую можно назвать гегемонией. Один город-государство, наиболее могущественный, выступал посредником в решении споров между другими до тех пор, пока его могущество не оказывалось в тени другого города-государства, который и становился гегемоном. С 2800 до 2500 г. до н. э. за лидерство боролись Киш, Урук, Ур и Лагаш. Хотя конкуренция со временем ослабила шумеров, которых впоследствии завоевали соседние государства Элам и Аккад, у них тем не менее была работающая система, позволявшая сохранять единство и при этом дававшая каждому городу-государству значительную степень суверенитета.
Индия IV в. до н. э. представляла собой гораздо более сложную социальную мозаику. Многие сообщества, формально независимые, объединяла общая религия – индуизм, а отношения регулировались мешаниной правил, возникавших в процессе экономических и политических взаимоотношений. Поскольку существование каждого города-государства зависит от его отношений с соседними государствами, здесь также высшей формой политической нравственности считались raison de systéme. Разумеется, сильные государства стремились подчинить себе более слабые, но даже в случае успеха не вмешивались в коммерческие дела и обычаи своих вассалов. Тем не менее, в отличие от шумеров, у индусов не возникало гегемона и политика, соответственно, была более хаотичной. Ситуация изменилась в 321 г. до н. э., когда в Северо-Восточной Индии Чандрагупта Маурья основал империю, постепенно распространившуюся на бульшую часть Азиатского субконтинента. В своей деятельности он опирался на имперский опыт Греции и Персии.
Главным советником Чандрагупты был Каутилья, автор классического политико-экономического трактата «Арташастра»[10]. Трактат Каутильи сравнивают с «Государем» Макиавелли из-за его проницательного, хотя и безжалостного взгляда на человеческую природу. Подобно Макиавелли, Каутилья показывает, как государь, которого он называет «владыкой», может создать империю, используя отношения между различными городами-государствами. Он говорит, что к любому соседнему городу-государству следует относиться как к врагу, потому что его придется покорять в процессе создания империи. Но отдаленные города-государства, граничащие с врагом, следует считать дружественными, потому что их можно использовать против врага без ущерба для собственной безопасности. Этой же идеей руководствовались Никсон и Киссинджер в начале 1970-х гг., рассматривая маоистский Китай в качестве друга, потому что он граничил с нашим врагом – Советским Союзом, который, в свою очередь, представлял угрозу для Китая [6]. Совет Каутильи добродетелен, потому что, как он говорит, цель завоевания – счастье каждого города-государства, которое достигается установлением стабильности. На завоеванных территориях, пишет он, должна сохраняться та же система правления, что и раньше, их образ жизни должен остаться прежним, а вместо требования платить дань завоеванным следует вернуть пошлины в качестве компенсации за их подчинение.