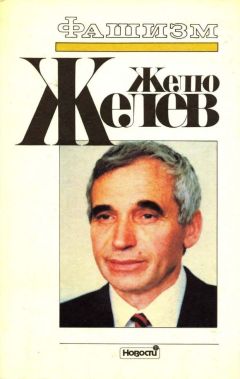Те же тенденции ярко выражены и в скульптуре.
«Уличные» памятники официального скульптора третьего рейха профессора Йозефа Торака — это гигантские композиции. Группа «Памятник улицы» на автостраде Мюнхен — Зальцбург представляет собой колоссальное скопище мышц. Суперкультуристы, на лицах которых читается тупая, фанатичная решимость. Физическая сила подавила пламя интеллекта.
Лжемонументальность отличает и другую скульптурную группу Торака, предназначенную для Марсова поля в Нюрнберге. Лошади гигантских размеров окружают богиню Победы, ее фигура должна была достигать 17-метровой высоты.
Исключительной массивностью отличаются и орлы Рихарда Клейна на Леопольд-Арене. Эти чудовища из бронзы, каждое весом в 150 центнеров, вознесены на семиметровую высоту, размах их крыльев — семь с половиной метров.
В театральном искусстве, которое, по мнению нацистских критиков, находилось в кризисе до установления фашизма, партийные идеалы реализуются в постановках пьес, воспевающих подвиги героев национал-социалистского движения: террориста Лео Шлягетера, расстрелянного французами во время оккупации Рура, командира штурмового отряда Хорста Весселя, убитого в пьяной драке в 1930 году.
Понятия о героическом и трагическом изменяются в соответствии с основными положениями национал-социалистского учения о личности и обществе, свободе и долге. Доктор Герман В. Андерс в статье «Поворот в трагедии» (газета «Бауштайне цур дойчен националтеатер», сентябрь 1935 года) пишет: «Отказ от индивидуалистической трагики, который мы сегодня переживаем, представляет собой подлинно революционный переворот в понимании трагики. Из фундаментальных положений национал-социалистской идеологии и возвышенного призыва к самым глубоким нравственным ценностям личности вырастает общественная трагика, чья драматическая форма выражения находится в процессе становления и поиска. Необходимо ясно показать отличие от античной фаталистической трагедии и индивидуальной трагедии. Не сам человек является предметом трагического повествования, не мировая жизнь в смысле космической картины мира, а народ и общность, немецкие люди и существующие в немецкой народности качества и ценности — вот смысл и сущность трагического. Национал-социализму как воле к достижению высшей ценности соответствует именно трагедия, которая есть самое возвышенное утверждение жизни» (170—159).
Отдельная личность не может быть трагической, потому что прежде она должна стать героической. А героическая личность могла бы противостоять фашистскому государству и фашистской партии, иначе говоря, национал-социалистской общности. Для национал-социалиста это абсолютно недопустимо, и даже скверно было бы такое о нем подумать, так как для него партия и государство — высшие политические ценности. Личность, которая посмеет выступить против фашистской партии и государства, ничтожна и жалка, она достойна уничтожения. Она ни в коем случае не может быть ни героической, ни трагической. Личность может быть только частицей (государства, фашистской партии, народа, превращенного в толпу), и лишь постольку, поскольку она служит общности, она может стать героической.
Именно по этой причине национал-социализм принимает коллективный трагизм и отрицает индивидуальную трагедию. Вне коллектива нет героев и трагических личностей. Следовательно, политические противники тоталитарного государства и правящей фашистской партии не могут быть трагическими личностями, ибо они не могут быть героями. Отсюда и варварский закон тоталитарного государства: унизить жертву, прежде чем отнять у нее жизнь, представить инакомыслящего предателем и изменником, вынудить его перед смертью сделать самые нелепые саморазоблачения. Презумпция такова: государство не убивает героев, ибо оно само — герой, государство же, убивающее героев, превращается в палача!
Чтобы искусство могло выполнять свою социальную и политическую миссию, служить национал-социалистской партии и перевоспитывать народ в духе ее идеологии, оно должно стать ближе к народу, стать ясным, понятным и доступным для всех. Оно должно реалистически, фотографически точно отображать объекты, так, чтобы не оставалось места для двусмысленных намеков, способных запутать и озадачить потребителя. Художественное произведение — картина или скульптура, роман или стихотворение — однозначно и четко должно говорить всем одно и то же. Без этого ему не выполнить своей воспитательной функции, своего основного предназначения.
Иными словами, требования фашистской партии к литературе и искусству не ограничиваются только выбором обязательно партийной темы. Они распространяются и на изобразительные средства, и на художественную форму: важно не только что и под каким углом изображается, но и как это воплощается. Демагогически понимаемые доступность и элементарность ставятся превыше всего. Отсюда и дикая ненависть национал-социалистских вождей к абстракционизму, ко всем формам модернистского искусства (импрессионизму, футуризму, кубизму, экспрессионизму). Вместо дифференцированной оценки каждого направления — безоглядное отрицание всего. В 1937 году модернизм заклеймен как «выродившееся искусство» («энтартете кунст») или отсталое искусство («афтеркунст» — термин А. Розенберга), начинается его яростное преследование. Начало кампании против модерна в искусстве положено так называемой «Выставкой «выродившегося искусства» в Мюнхене, организованной в июле 1937 года по инициативе НСДАП. По этому поводу Гитлер выступает с речью, в которой заявляет следующее:
«Итак, я пришел к заключению, что мне необходимо придерживаться более твердой линии, я должен возложить на немецкое искусство единственно возможную задачу — заставить его пойти по пути, указанному немецкому народу национал-социалистской революцией.
Период возвышенных дел во всех областях человеческого прогресса, забот не только об острых духовных нуждах, но и об идеальной телесной красоте больше не должен символизироваться варварскими демонстрациями маньяков от искусства, оставшихся на уровне каменного века, слепых к цвету, экспериментирующих холстомазов, ко всему прочему, ленивых, и бездарных. Германия XX века — это Германия народа этого века. Однако немецкий народ в этом веке — проснувшийся для жизни, восхищенный сильным и красивым, а значит, здоровым и жизнеспособным.
Необходимо, чтобы общее художественное богатство народа сохранилось на здоровой, порядочной основе, опираясь на которую поднимутся подлинные гении. Гений не бывает бессмысленным» (178—338).
Так была дана партийная санкция на разгром модернизма. Маленькие и большие партийные вожди, руководители разных интеллектуальных союзов начинают произносить речи против «выродившегося искусства». Вся пресса, радио и кино комментируют речь фюрера и ее значение. Одни называют ее исторической, другие программной, третьи началом нового ренессанса немецкой культуры и т.п.
Модернистов называют «убийцами искусства», «болтунами», «дилетантами», «выродками бессмыслия» (А. Циглер), а их произведения примитивом, развратом, безумием и т.п. Карл Хоффер назван «декадентом» (113—51), Эмиль Нольде — «негроидом» (178—50), Барлах — «полуидиотом», Пауль Клей «убийцей народного искусства» (90—53). В том же «Ведомстве по надзору над искусством» Альфред Розенберг — рейхслейтер по идеологическим проблемам — называет художников, типа Барлаха, «экспрессионистскими недочеловеками», которым следует противопоставить «здоровый народный инстинкт» (151—205).
Газета «Кёльнише фольксцайтунг» (22 июля 1937 года) в статье под заголовком «Палата немецкого искусства» пишет о модернистах: «Выставка «выродившегося искусства», которая является предупреждающим и пугающим примером, показала еще раз потрясающим образом, какой хаос царил в искусстве до 1933 года.
...Сегодня изобразительному искусству, скованному в то время противоестественными цепями интеллектуализма, возвращена свобода» (178—330).
«Дойче альгемайне цайтунг» в номере за то же число помещает специальную статью о модернистах под заголовком «Выставка выродившегося искусства». Автор Бруно Вернер с удовольствием отмечает, что «ведущие немецкие художники» разоблачены как псевдохудожники. «Этой выставкой подведен итог целого периода, когда проявили себя живописцы и скульпторы, коих до сих пор называли «ведущими немецкими художниками». Их работы в будущем станут показывать как «свидетельства глубокого разложения нашего народа и его культуры».
Выставка знаменует собой конец периода в изобразительном искусстве, полного неясности даже для людей, готовых понять его, для людей, которым в храме немецкого искусства отныне будет указан путь к национал-социалистской политике в искусстве» (178—328).