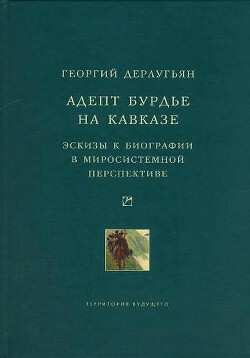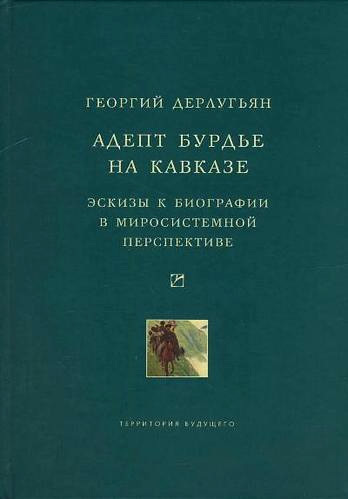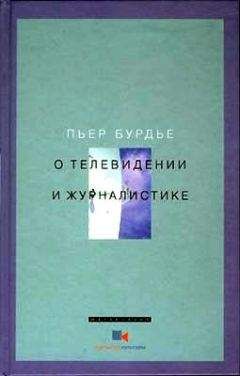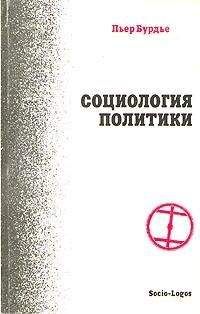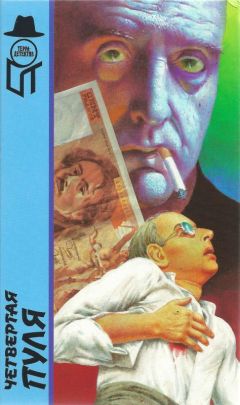Наблюдения Бурдье касательно стратегий воспроизводства академической иерархии, включая центральный механизм длительного сдерживания и провинциализации более молодых претендентов путем навязывания схоластических «стандартов научности», особенно в растянутом на долгие годы процессе написания крайне трудоемких канонических диссертаций, вполне применимы и к анализу затруднений Юрия Шанибова.
В действительности амбициозный молодой лектор из Нальчика, позволявший себе рассуждать перед студентами о творческом развитии марксизма и проблемах развитого социализма, олицетворял две угрозы консервативному профессориату: он либо метил в начальство, и тогда его прежним гонителям бы не поздоровилось, либо в публичные возмутители спокойствия, в случае чего профессориат не только бы изобличался в косности, но и мог быть заподозрен в недостатке политической бдительности. В обоих случаях разумнее было Шанибова притормозить или даже подать предупредительный сигнал в органы госбезопасности, переложив политическую ответственность и вероятные «оргвыводы» на парторганы и чекистов.
Гонения, направленные против Шанибова, у многих вызывали чувства сострадания и стыда, хотя мало кто рискнул бы их выказывать публично. Не публикации, формальные дипломы и должности, а ореол смелой незаурядности, сочувствие и повседневная неафишируемая дружба коллег и бывших студентов на долгие годы вперед составили Шанибову его личную совокупность символического и социального капитала. Следует подчеркнуть, что шанибовский круг поддержки не был группой диссидентов. Относительно молодые интеллигенты и специалисты просто продолжали жить в одном городе и оставаться приятелями. В брежневскую эпоху они в политической и контркультурной деятельности не участвовали, ибо Нальчик оставался слишком небольшим, достаточно традиционным и изолированным от столиц городом, чтобы приютить политизированное либо богемное интеллектуальное подполье. Личную социальную сеть Шанибова можно назвать от силы эмбриональной контрэлитой.
Испытания, которым подвергся Шанибов, вполне соответствовали личному опыту миллионов таких же образованных людей молодого и среднего возраста в СССР и странах соцлагеря. Повсеместность, однако, не обязательно была результатом официально проводимой центром кампании. Как минимум не меньшую и «объективную» роль играли гомологичность местных социальных ситуаций и культурно-дискурсивная связанность советского пространства, которые делали возможным как повсеместную консервативную реакцию брежневских времен, так и возникновение единого интеллигентского сопротивления, ставшего явным с очередным изменением климата в годы горбачевской гласности. Сигналами служили драматические события, подобные смещению Хрущева, вводу войск в Прагу или лишению Солженицына советского гражданства, равно как и ритуализованные идеологические установки московского центра, открыто публикуемые в пропагандистских передовицах либо рассылаемые в виде «закрытых писем» для обсуждения в парторганизациях на местах. Сигналы сливались в своеобразный поток и затем расшифровывались в качестве, например, санкции на выявление доморощенных диссидентов.
Последующая активность на местах определялась далеко не только полученными сверху сигналами – будь это так, СССР в самом деле можно было бы считать подлинно тоталитарной диктатурой. Но тогда, по всей видимости, и побудительные призывы Москвы к повышению качества и эффективности общественного труда, подъему сельского хозяйства или борьбе с пьянством должны были бы беспрекословно исполняться, а не оставаться раз за разом пустым пропагандистским ритуалом. Здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой инфраструктурной слабости (в противоположность деспотической силе) советского государства. Последовательно и даже ревностно исполнялись те директивы центра, которые либо соответствовали интересам местной иерархии, либо вызывали опасение не оказаться в русле текущей кампании, если центр давал понять, что на сей раз могут последовать серьезные проверки. Наверняка таков и был механизм сталинских чисток и военной мобилизации. Впрочем, даже тогда находились способы симулировать деятельность, и тем более они находились после частичного демонтажа аппарата сталинского террора.
По меркам сталинских времен Шанибову ничто особенно не угрожало. Он так и остался преподавать в университете и даже регулярно выезжал на конференции и семинары по обмену опытом студенческого самоуправления, особенно в крупные индустриальные города Сибири, где всегда царило относительное свободомыслие. Подавление непрошеной инициативы осуществлялось в основном унизительными «проработками». Арестов и тем более физического устранения избегали сами органы госбезопасности даже в отношении настоящих диссидентов. В этом десталинизация определенно оказалась последовательной и необратимой, поскольку отвечала интересам самосохранения властвующей номенклатуры. Большинство жертв морального прессинга были представителями интеллектуальных кругов, поскольку, как мы увидели в предыдущей главе, области науки и культуры оказались ключевыми в символическом противостоянии консервативного и реформистского крыльев номенклатуры. На местах выбор жертв производился в основном среди претендентов на уже занятые места и должности. Старшие преподаватели официально утвержденных идеологических предметов и управленцы научно-исследовательских учреждений использовали пугало КГБ преимущественно для того, чтобы указывать младшим коллегам на их место, а также чтобы предотвращать накопление вызывающе самостоятельными соперниками символического капитала, потенциально обладающего престижной ценностью в мировых (т. е. западных) сферах культуры и науки.
По времени и местоположению участи Шанибова близок пример еще одной жертвы ревниво подозрительной профессуры, хотя встретятся они лишь годы спустя. В середине 1970-х гг. деканат факультета филологии и партком Чечено-Ингушского госуниверситета посчитали своим долгом поставить местный комитет госбезопасности в известность о подозрительных настроениях, складывающихся в самодеятельном поэтическом кружке «П’хармат» (по-чеченски «Прометей», типичное советско-молодежное название тех лет). Отметим, что деканат и партком состояли в основном из приближенной к местной власти русскоязычной профессуры города Грозного и нескольких лояльных чеченцев, в то время как «пхарматовцы» были начинающими чеченскими и ингушскими интеллигентами, лишь недавно покинувшими село. Их романтические и порой несносно наивные строфы о любви, молодости, красоте родных гор, орлином полете и овеянных легендами средневековых каменных башнях казались политически совершенно невинными. Поводом для доноса послужило раздражение некоторых старших членов местного отделения Союза писателей, на суд которых молодые чеченские поэты не удосужились представить свои произведения. Спустя годы этот провинциальный микроконфликт аукнулся чеченской революцией, когда ставшие во главе радикальных националистов бывшие молодые поэты и краеведы оставили не у дел статусных интеллектуалов, припомнив им прошлое цензорство. Одним из основателей гонимого кружка был уже упоминавшийся в первой главе Зелимхан Яндарбиев, совместно с Шанибовым впоследствии основавший также Конфедерацию горских народов Кавказа, Вайнахскую демократическую партию, временный президент Ичкерии в 1996–1997 гг. и, наконец, религиозный фундаменталист, убитый в изгнании в Катаре. В ретроспективе Яндарбиев представляет свою интеллектуальную биографию в виде восходящей по прямой национально-повстанческой радикализации [98]. Однако факт остается фактом – в середине восьмидесятых Яндарбиеву удалось-таки стать членом республиканского Союза писателей и – более того – вскоре занять должность его секретаря, что означало доступ к распределению квот на публикацию книг, путевок в Дома творчества, квартир и других материальных благ советской литературной номенклатуры. Остается гадать, кем бы стал поэт Яндарбиев сегодня, сохранись СССР.
Неприятное, но, как видим, не роковое столкновение молодого Яндарбиева с местными органами госбезопасности в семидесятых годах случилось в основном по двум причинам преимущественно местного значения. Во-первых, руководство грозненского управления КГБ, вероятно, не желало портить отношения с просившей о поддержке местной русскоязычной номенклатурой, которой ради дальнейшего сохранения своих позиций в нарушение советских же норм национального представительства в республиках требовалось регулярно подпитывать самооправдательный тезис о недостаточной лояльности чеченцев и ингушей. Во-вторых, региональным органам КГБ необходимо было регулярно докладывать в Москву о результатах проделанной работы. Иностранные шпионы в провинциях и внутренних республиках встречались нечасто, поэтому основной заботой считалось присматривать за националистическими проявлениями. Однако в этом деле требовался свой баланс. В атмосфере брежневского умиротворения не стоило излишне беспокоить московское начальство рапортами об особо опасной антисоветской экстремистской деятельности. Такое могло быть расценено и как провал в работе, недосмотр местных органов. Профилактическое запугивание подобных Шанибову искренних коммунистических реформаторов и напористых юных литераторов вроде Яндарбиева служило достаточно удобным прикрытием для имитации бдительной, но рутинной деятельности. В разговоре со мной бывший офицер (этнический русский) одного из провинциальных управлений КГБ рассказал об обычной неформальной практике звонков коллегам в соседние республики и области для того, чтобы, как он выразился, «в дружеской, коллегиальной манере посовещаться и выяснить», какие именно разновидности операций и какой интенсивности будут расценены руководством в Москве как наиболее удовлетворительные [99]. В целом, коллективно и неформально обговоренная симуляция деятельности стала основополагающей стратегией бюрократического режима брежневского СССР.