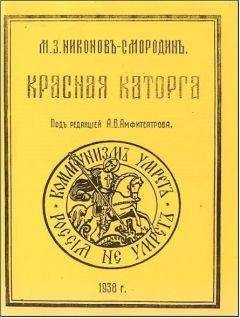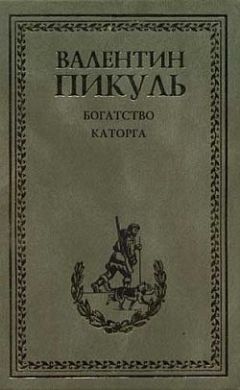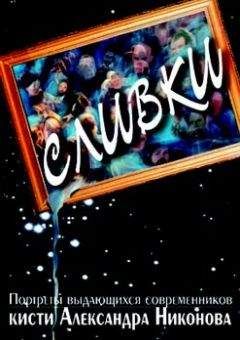Море шумит. Я не могу овладеть током мыслей, стремящихся помимо моей воли все туда же — к месту гибели друзей, не могу стряхнуть с себя невыразимой тоски. На глазах закипают слезы.
Поднимаюсь с земли и медленно иду, запинаясь в темноте о валуны. Мне нужно идти пять километров до дежурного перевоза. Тропинка то и дело выскальзывает у меня из-под ног. Я стараюсь найти ее снова, скользя по камням, натыкаюсь на лапы молчаливых елей, падаю, поднимаюсь и иду опять.
Наконец, начал сереть восток и между елями стали просвечивать воды морского залива. Вот и перевоз. Я усталый валюсь под прибрежную ель и лежу молча, будучи не в силах даже крикнуть перевозчику.
Наступил январь 1930 года, а навигация все еще не прекращалась. На Соловки прибывал этап за этапом и население соловецкого четвертого отделения достигло небывалой цифры — двадцать пять тысяч человек. Шла коллективизация и потоки заключенных — кулаков и подкулаков заливали и лагеря и места ссылки.
Тиф начал свирепствовать по-настоящему и официальные лагерные приказы сопровождались длинными списками умерших от тифа, исключаемых по этому случаю с довольствия. Эти лагерные приказы рассылались по всем командировкам острова, в том числе и в наше звероводное хозяйство. Попадали они обычно в руки начальников охраны и являлись документами секретными. Но у нас не было охранника и потому приказы попадали в контору, то есть к нам в руки. Благодаря этому мы могли следить за лагерной жизнью по документам, а не по слухам.
В приказе от двадцать третьего ноября 1929 года значились умершими от тифа в числе других группа в шестьдесят три человека. Каково же было мое удивление, когда в списке этом я обнаружил фамилии Петрашко, Покровского, Чеховского, расстрелянных моряков. Стало быть, они были расстреляны без приговора, без санкции Москвы. Это обстоятельство свидетельствовало о крайнем перепуге островных чекистов соловецким заговором. Приговор, как оказалось, пришел из Москвы потом и остальные сто сорок заговорщиков были расстреляны на Секиряой горе, так сказать, «на законном основании».
Вначале января архиепископ Илларион, пробывший на Соловках шесть лет, был отправлен в Москву в одном вагоне со вшивой тифозной шпаной по дороге он заразился тифом и умер в тюремной больнице имени доктора Гааза… У владыки было слабое сердце. Температура тела у него иногда падала до тридцати пяти градусов с дробью. На Соловках вообще почему-то температура тела у людей несколько ниже нормальной.
В Кремле творился ужас. Все свободные помещения превращены в лазареты. Никольский корпус за Кремлем так же был набит битком тифозными. Люди лежали на нарах, по полу, в проходах — плечом к плечу. Индивидуального ухода за больными не было и не могло быть по громадному количеству больных. Если сердце здоровое — человек выживал, если нет — умирал. Весь уход заключался только в кормежке и уборке. Все остальное предоставлено «целительным силам организма». Вырвавшихся из когтей смерти, слабых, едва держащихся на ногах, отправляли в команды выздоравливающих и многие гибли там от невыносимо тяжелых условий существования. К весне, по официальным данным, погибло от тифа семь с половиною тысяч человек. Кемперпункт и его командировки дали одиннадцать с половиною тысяч умерших от тифа.
Туомайнену для питомника выслали из Кемперпункта ветеринарного врача Чижа. По расчету он давно бы должен был прибыть в питомник, но человек где-то затерялся. Туомайнен деятельно его разыскивал через УРЧ и никак не мог найти.
— Да вы справьтесь — не в сельхозской ли он конюшне? — посоветовал Туомайнену Михайловский.
Это был не плохой совет. Через день ветеринарного врача действительно нашли в сельхозской конюшне и привезли в питомник.
Средних лет, мягкий, стеснительный, Чиж производил впечатление человека, прошедшего мимо революции и и не бывшего в лапах ГПУ. Благодаря своей мягкости и стеснительности он и попал в конюшню и жил там без малого неделю со шпаной. При отправке из Кеми ему дали документ для следования без конвоя. Он должен был при посадке на пароход идти в классное помещение. Вместо того, он, по скромности, не заявил о себе и попал в трюм со шпаной и идущими в первый раз в Соловки. С этой волной он и заброшен был в конюшню. Выбраться же оттуда без посторонней помощи невозможно. Раз попал на дно — там и будешь, пока кто-либо не вытянет.
Чиж деятельно принялся за работу. Лисицы дохли и нужно было принимать срочные меры. Он совсем почти не бывал у себя в новом доме на Песцовом островеи проводил все время с больными лисицам. За обедом не удавалось с ним переговорить. Он махал рукой на расспросы о конюшне и считал себя счастливым, что избежал заражения тифом.
— Мне этой роскоши позволить себе нельзя, — шутил Чиж. — У меня сердце не выдержит: я обречен на смерть.
Через несколько дней он как будто начал прихварывать, в глазах появился лихорадочный блеск.
— Измеряйте хоть температуру себе, — советует Михайловский.
Чиж только рукой машет:
— Пустяки, простуда. Пройдет.
И продолжал работать явно перемогаясь.
На другой день он все же слег. Но ни высокая температура, ни потрясающий озноб не могли уверить его в заражении тифом. Даже видя тифозную сыпь, он говорил:
— Это может быть и от других причин.
Через несколько дней тиф унес его в могилу.
* * *
Наша командировка также была объявлена неблагополучной по тифу и по сему случаю на наши острова прислали в качестве начальника командировки чекиста Прорехина.
Этот высокий, нескладный дубина сейчас же создал вокруг себя чекистско-сексотское окружение. Появились в большом количестве сексоты, среди рабочих и служащих появились склочные вспышки. Прорехин навел сразу чекистский порядок и заставил всех вспомнить, кто они и где они. Туомайнен с большим трудом убедил его не производить поверок, ибо это плохо отражалось на работе и противно режиму питомника.
Вскоре заболел тифом Серебряков. Его положили в Никольский корпус. По ходатайству Туомайнена за ним учредили индивидуальный уход. Через полтора месяца он явился на питомник худым и бледным. На расспросы только отвечал:
— Что там рассказывать? — Лежал в какой-то мертвецкой. Кругом трупы. Сегодня принесут — завтра уже труп.
Как-то вечером проходя мимо поленниц дров, я заметил незнакомого человека, коловшего дрова. Я остановился. Незнакомец с трудом распрямил спину и, увидев меня, издал радостное восклицание.
Я подошел ближе. Вот неожиданность: передо мною американский комсомолец Оскар Павлович Гретенс. Он работал с нами на кирпичном заводе, где на моих глазах — чуть не погиб.
— Оскар Павлович. Да, это вы? Я, признаться, думал, что вас тогда на кирпичном на смерть раздавило вагонеткой, когда вы вшестером спускали ее под горку.
— Да, да, я был посредине. Компаньоны то мои бросили вагонетку, как только она стала напирать на нас и она меня, должно быть, пополам сложила. Я ведь не помню.
Да, вас всего окровавленного и без сознания отправили в лазарет. Я считал вас погибшим. Поздравляю с избавлением.
— Я тогда поправился, — сказал Гретенс, протягивая мне свою худую руку и улыбаясь бескровными губами. — Тиф перенес.
— Даже тиф. Это уже больше, чем удача. Честь и слава американской комсомолии.
Гретенс мрачно сдвинул брови. Я почувствовал, что попал на больное место и поспешил перевести разговор на другое.
— Как вы попали на питомник?
— От кустпрома [13]. Здесь нужно изготовить макет питомника, вот меня и прислали на эту работу. Планы и карты чертит топограф Ризабелли и инженер-архитектор Капустин.
— Ризабелли? Тот самый, что в жилет Горькому плакал?
— Она самый, — смеется Гретенс. — Теперь он проклинает Горького и не может равнодушно говорить о нем.
— Что же вы тут дрова колете? Разве в вашей комнате нет здоровых людей? У вас и сил еще нет.
— Теперь ничего, — храбрится Гретенс. — Вот в команде выздоравливающих было плохо совсем.
Он рассказал про свое полубредовое, полусознательное существование в землянке вместе с другими выздоравливающими. В общей цепи необыкновенных приключений американского комсомольца в России это, пожалуй, были самые жуткие картины.
Впоследствии Гретенс не возвратился в кустпром и сделался звероводом.
Только в начале февраля закрылась навигация; замерзло море, начались настоящие холода и суда стали на зимовку.
Глубокий снег засыпал замерзшие болота, превратив их в белые равнины, ветры намели сугробы и сравняли овраги. Из питомника теперь можно было прямо по льду идти в Кремль по лыжне, протоптанной пешеходами и обращенной в тропинку.
На островах пушхоза продолжала кипеть деятельная работа. Обширный (на пятьсот пар) песцовый питомник был почти закончен, окончательно оборудован лисий и соболиный питомники, выстроено несколько домов, баня и оборудована и закончена звериная кухня.