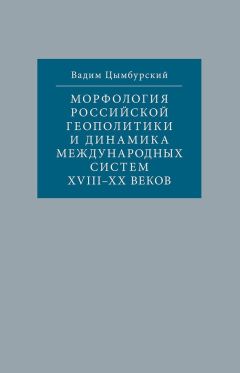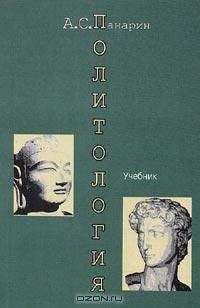Аналогично Бердяев твердит о том, что «Европа не может быть более монополистом культуры. Европа – неустойчивое образование. … Россия должна стать для Европы внутренней, а не внешней силой, силой творчески преображающей». Но «для этого Россия должна быть культурно преображена по-европейски» [Бердяев 1990, 126, 129] (точно на дворе XVIII в.). Понятно, что в таких условиях, в конце концов, евразийские медитации насчет азиатской души России и т. п. даже в «западническом» их преломлении начинают восприниматься как пройденный этап, как нечто для России уже устаревшее, и не случайно Бердяев благожелательно-снисходительно откликнулся на «Две души» М. Горького с их противопоставлением Европы и Азии, подчеркивая, что речь должна идти о неоднородности Европы. Интеллигенция упивается этой неоднородностью, тогда как политики-практики к восторгу православных иерархов пытаются использовать эту неоднородность, достигшую антагонизма, для обустройства Балто-Черноморья.
Разумеется, остаются и инерции евразийской фазы. Э. Урибес-Санчес отмечает: если кадеты встраиваются в новый цикл полностью, разрабатывая и конкретизируя его идеологию, то в органах печати и изданиях, связанных с октябристскими и прогрессистскими кругами, евразийские инерции более отчетливы и сильны. Прогрессистский «Голос Москвы» (1912.18.04) мог оспаривать позицию Сазонова о России – европейской державе («конечно, государство наше зародилось и сложилось в Европе, но то было давно, а в настоящее время центр тяжести России неуклонно передвигается к Востоку, к центру великой, северной Равнины, и Азия нам столь же важна и близка, как и Европа»). Прогрессисты и октябристы могли подчеркивать, что Монголия и застенный Китай для России не менее важны, чем проливы («Утро России», 1911. 23.01; 15 и 22.02; 17 и 19.03; 23, 24 и 26.04; 9 и 11.10). И даже могли развиваться идеи сплочения славянства, Ближнего Востока, Средней Азии и монгольских земель вокруг России («Утро России», 1911. 28.07; 6 и 9.11) [ИВПР 1999, 384–390].
Существенно, однако, что евразийские концепции в эту пору отнюдь не всегда, как у B.C. Кочубея, имеют характер прямой и яростной реакции на господствующую тенденцию новой фазы. В это время вырабатываются новые схемы, позволяющие интегрировать преевразийские схемы в рамки новых установок. И тут не столько манипулирование временной перспективой, когда, скажем, оформление вокруг России азиатского пространства отодвигается во временную даль – после решения балтийско-черноморских и ближневосточных задач. Гораздо важнее для этой эпохи – обсуждаемая политиками и интеллектуалами всех направлений и толков в связи с европейской борьбой тема империализма, раздела неевропейского мира на сферы держав Запада. В рамках этой темы строительство геоэкономического и геополитического автономного пространства освобождалось от коннотаций геокультурного противостояния Европе, преподносилось как частный эпизод в рамках европейской истории, вырастающей в историю всемирную. Более того, возникновение мировых комплексов, объединяющих европейские державы с их азиатскими колониями, позволяло теперь перешагнуть через былое представление об уникальности «европейско-азиатского» положения России, избыть мнение об особом драматизме ее погружения в Азию, казалось бы, положить конец манипулированию этими мотивами в обоснование противоположности России и Запада. Теперь все крупнейшие державы Запада, а тем более их образования, становились комплексами европейско-азиатскими. В раздумьях Бердяева на этот счет броско прочерчиваются те же тенденции, которые легли в основание западной геополитики как политики разделенного и переделываемого глобуса, переход теории международных отношений из социологического в планетарно-космический план.
Бердяев пишет: «Тот духовный поворот, который я характеризую как переход от социологического мироощущения к мироощущению космическому, будет иметь и чисто политические последствия и выражения…. Перед социальным и политическим сознанием станет мировая ширь, проблема овладения и управления всей поверхностью земного шара, проблема сближения Востока и Запада, встреч всех типов и культур, объединения человечества через борьбу, взаимодействие и общение всех рас. Жизненная постановка всех этих проблем делает политику более космической, менее замкнутой, напоминает о космической шири самого исторического процесса. Поистине проблемы, связанные с Индией, Китаем или миром мусульманским, с океанами и материками, более космичны по своей природе, чем замкнутые проблемы борьбы партий и социальных групп…. В политике империалистической объективно был уже космический размах и космические задания» [Бердяев 1990, 142], – как бы вторя декларациям Маккиндера и Дж. Файргрива и предвосхищая германских геополитиков. Для того, чтобы тема империализма была воспринята русскими в таком ключе, как снимающая границы цивилизаций и прежде всего Запада и России, нужна была особая конъюнктура, типичная именно для фазы А с ее интеграцией России в игры расколотого Запада. Пройдет десять лет, – и та же империалистическая проблематика будет поставлена нашими евразийцами совершенно по-иному – в плане обособленности России-Евразии от империалистической ойкумены, выстроенной Западом (прежде всего Европой), с упором на роль России-Евразии как другого планетарного фокуса, скрыто союзного бунтующей империалистической периферии (старые схемы отчасти Данилевского, отчасти Ухтомского).
Впрочем, неоспоримо также, что в когнитивном аппарате того же Бердяева в запаснике пребывали и схемы «преевразийские» в их либерально-западнической обложке а là Соловьев и Мережковский. Во всяком случае, на надлом России, ее выпадение из европейской игры он откликается вот таким типично преевразийским апокалипсисом: «Теперь уже в результате мировой войны выиграть, реально победить может лишь крайний Восток, Япония и Китай, раса, не истощившая себя, да еще крайний Запад, Америка. После ослабления и разложения Европы и России воцарятся китаизм и американизм, две силы, которые могут найти точки сближения между собой (миллевско-герценовско-мережковское «Царство Середины». – В.Ц.). Тогда осуществится китайско-американское царство равенства, в котором невозможны уже будут никакие восхождения и подъемы» [там же, 5].
Здесь схематика новой фазы надламывается, утрачивает способность опосредовать и интегрировать материал преевразийских схем и реакций, пронесенный через всю эту фазу, скрытый под ламентациями о мире, где снимается различие Европы и не-Европы.
Любопытно, что в это время на периферии политической и интеллектуальной элиты, в кругах крайне левой социал-демократии перерабатываются схемы, которые в будущем войдут в интеллектуальный арсенал следующей, уже собственно евразийской фазы. Симптоматично, что на ключевом направлении международных игр этой фазы радикальная публицистика не выдвинула ничего нового, эксплуатируя схемы, ходячие в правящих кругах и в кругах лояльной оппозиции, и цитировала эти схемы, оснащая их антиправительственными шпильками. Извольский в 1908–1909 гг. хлопочет об антиавстрийской федерации с младотурками в основе, Милюков твердит о необходимости объединения балканских держав – «и непременно всех их», и Троцкий твердит, что «демократическая Турция ляжет в основу балканской федерации», присочинив только выкрик правящему Петербургу «Прочь от Балкан!» В июле 1910 г. Сазонов клянется в верности формуле «Балканский полуостров для балканских народов», и Ленин тут же повторяет: «Балканы – балканским народам», – и нападает от имени большевистской партии на Европу, мешающую созданию «Балканской федеративной республики». Относясь к балто-черноморской игре как предосудительному империалистическому «хищничеству», эти маргиналы большой политики не могут сформулировать на этом направлении никакого подхода, который не был бы, по существу, внесен в рамки имперской геостратегии тех лет – как ее кривляющаяся тень.
Тем интереснее, что на иных направлениях, оставленных вне основных акцентов этой фазы, Ленин формулирует подход, который не только ляжет в основу большевистской азиатской политики 1920-х, но и получит сочувственное отношение основателей евразийской школы proprio sensu. Мнение о передовом характере «молодого» капитализма и застойно-реакционном капитализма зрелого позволит Ленину под влиянием азиатских национальных революций сформулировать противостояние «отсталой Европы и передовой Азии». Опираясь на разработки Дж. Гобсона, первого теоретика империализма, и в споре с доктриной ультраимпериализма К. Каутского Ленин придет к мысли о мировой опасности, которую способна нести «Европейская федерация великих держав», основанная на эксплуатации цветных континентов и превращающая эти страны в рантье и их обслугу – страны без классовой борьбы. Исходя из этого положения, Ленин яростно отверг проект «Соединенных Штатов Европы» как идею сговора стран отсталого капитализма против капитализма передового – американского и японского. Если Бердяев в кризисном 1917 г. страшился подавления Европы напором энергий Японии, Китая и Америки (западническая версия «преевразийства»), то Ленин перед фактом грозящей депролетаризации Европы отдает все симпатии «младокапитализму» САСШ и «передовой Азии». Как сформулировал ленинский подход евразиец Г. Вернадский, «империализм создал новую базу капиталистического строя. База эта – колонии, полуколонии и финансово зависимые страны. Следовательно, для того чтобы сокрушить капиталистический строй, нужно разрушить эту базу» [Vernadsky 1931, 119]. Так на периферии политического спектра вырабатываются модели, которым суждена исключительная роль при циклической перемене стратегической конъюнктуры и которые войдут в симбиоз с преевразийскими наработками Данилевского и Ухтомского.