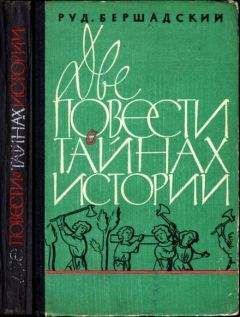Древние хорезмийцы и индейцы-ирокезы
Над Топрак-калой густо курится пыль, взметаемая сотнями лопат.
Грандиозное впечатление производят топрак-калинские руины! Вокруг беспредельная плоская серо-желтая пустыня, — и вдруг посреди нее прямоугольник колоссальных покатых валов. Впрочем (это видно сразу), они образовались не сами по себе, а лишь после того, как человек возвел здесь отвесные крепостные стены, и много столетий ветры пустыни били в их подножие песчаным прибоем, пока намели не оплывающий под ногою двадцатиметровый вал.
А там, за валом, что?
Он тянется метров на пятьсот в одном направлении, метров на триста пятьдесят — в другом и огораживает такую площадь, что ее хватило бы для целого города. Однако действительно ли за валом был город? Может быть, иное, дворец царя? И над какой округой все это господствовало? Конечно, не над пустыней — для пустыни было бы достаточно не такой большой крепости. Значит, здесь тогда был оазис и скрещивались дороги из различных земель? Как трудно представить себе это… Пылили по ним кони… Наверно, не только кони друзей — от друзей не укрываются за крепостными стенами… Журчала вода в арыках, листва урюковых деревьев отбрасывала на землю резную тень, белый пух летел с тополей на зеленую мирную воду. Но когда дневной зной сменялся холодом ночи, ворота в городской стене замыкались накрепко и бессонная стража на башнях зорко смотрела окрест через бойницы: не вспыхнули ли где-нибудь костры дальних сторожей, извещающие о приближении врагов?
Как много охотников до чужих богатств, как жадно щурятся всегда глаза кочевников на добро людей оазисов!
Разве не проще кочевнику ограбить, чем заниматься меной? До рассвета стража на башнях не смыкала очей…
Взбираюсь по склону наверх. Неужели разрушительное время не сохранило за валами ничего?
Вот и гребень вала. И невольно застываешь, потрясенный раскрывшейся картиной. Пусть века пощадили немногое, но как выразительно и оно!
За стенами крепости лежал целый город. Почти отвесным обрывом обращен внутрь городища северо-западный угол его: глиняная площадка высотой приблизительно в пять современных этажей и таких размеров, что на ней умещался дворец хорезмшаха с тремя башнями.
Дворец круто возвышался над всем, что находилось внутри крепостных стен, а сами стены круто возвышались над оазисом.
От города сейчас не осталось ничего, кроме поросших жестким тамариском невысоких бугров на месте башен да теневых контуров от стен домов, — их изредка можно различить на поверхности городища в косых лучах раннего или заходящего солнца. Сперва даже кажется, что это обман зрения, и лишь потом убеждаешься, что одни и те же контуры проступают на поверхности в косых лучах постоянно. Так причудливо сохранился план улиц и переулков города и даже планировка отдельных комнат внутри зданий! Больше того: это удалось сфотографировать. Особенно удачными оказались снимки, сделанные с самолета.
Авиация неожиданно сомкнулась с землеройкой-археологией.
План Топрак-калы на редкость своеобразен. Бросается в глаза, как резко и ровно разделен был город надвое центральной улицей. Она шла от городских ворот и упиралась в массив дворца. По обе стороны улицы стояло всего по четыре-пять зданий, занимающих громадную площадь каждое: до полутораста метров в длину, до девяноста — в ширину. И в каждом из зданий (по всей видимости, одноэтажных) можно насчитать самое меньшее полтораста комнат. Иногда два здания соединялись перемычкой в одно. Какой же численности се́мьи населяли такие махины?
Нет, это не могли быть семьи, какие существуют у большинства народов сейчас. При уровне тогдашних запросов человека ни одной семье не могло понадобиться такое количество жилой площади.
Эти здания служили жилищем гораздо более крупным группам, которые ученые условно называют «большими семьями», — группам, включавшим в себя чрезвычайно широкий круг родственников. Вот в чем разгадка и размера их, и столь резкого разделения города надвое, и того, почему в конце центральной улицы, на месте какого-то обширного помещения, примыкавшего непосредственно к дворцу шаха, но находившегося, однако, ниже его, обнаружено так много слежавшейся белой золы. Это жгли священный вечный огонь в городском храме огня! Жречествовал здесь, вероятно, сам хорезмшах, спускавшийся для совершения религиозных церемоний из своего дворца. Во всяком случае, дворец и этот храм были отделены от остального города одной особой общей стеной.
Здесь отчетливо проявляются пережитки того времени, когда глава рода совмещал в своем лице также обязанности жреца. Постепенно он приобрел постоянную власть над родом. А по мере накопления им и его приближенными все большего богатства и разделения общества на классы эта власть превращалась в государственную, сам же он — в царя. Вместе с тем усиливалась и его духовная власть. Прежде он был только жрецом, то есть, так сказать, лишь уполномоченным рода по переговорам с высшими силами. Теперь же он требует, чтобы всемогущим божеством считали его самого. Его дворец возносится уже над всеми остальными жилищами соплеменников; уже и титуловать его надо, как бога.
Знакомая картина. Какие только властители не требовали обожествления своей личности! Фараоны Египта не были одиноки в этом. Так же, совместно с городскими храмами, строились грандиозные дворцы властителей Ассирии (кстати, и архитектурно близкие Топрак-кале). Не важно, что Топрак-кала отделена от Ассирии многими веками, — схожие исторические условия всегда приводят к одним и тем же следствиям, утрата народами своих прав всегда приводит к обожествлению владык.
Ну, а деление города надвое — что оно означало, в чем заключался его смысл?
Не случайно было и оно.
Есть крылатая фраза Энгельса о «социальных ископаемых», то есть о таких общественных явлениях, по которым можно, как по окаменелостям, читать историю бесконечно далеких времен.
Мы сплошь и рядом обращаемся к пожилому мужчине, которого не видели никогда в жизни, — «отец»; к пожилой женщине — «матушка»; к ребенку — «сынок». Кое-где еще и на нашем веку сохранялся обычай кулачного боя «улицы на улицу». Даль времен, от которых все это дошло до нас, имеет прямое отношение к разделению Топрак-калы на две части.
Наше обращение — «отец», «матушка», «сынок» — идет от тех времен, когда семьи, в ее сегодняшнем понимании, не было, когда она еще не сложилась. Тогда все женщины племени, если только мальчик, юноша или мужчина годился им по возрасту в сыновья, считались его матерями, а их сверстники-мужчины — отцами. Почти от тех же времен — «улица на улицу».
Самое раннее из достоверно известных нам делений племени — это его деление на «фратрии» («братства»): основной элемент родовой организации, «первоначальный род». Племя было чрезвычайно сплоченной группой, одноплеменники очень тесно и постоянно были связаны друг с другом. У них были общие угодья и промыслы, общие враги, общий язык, одни и те же законы, одни и те же верования.
Браки внутри фратрий были строжайше воспрещены. Деление племени на фратрии способствовало укреплению племени, но в то же время создавало известное противопоставление фратрий одна другой. Люди одной фратрии, чувствуя себя, можно сказать, близнецами с людьми другой фратрии и не мысля себе своего существования без них, начинают, однако, осознавать и какое-то свое отличие. Становится традиционным мериться силой между фратриями. Причем характерно, что бой, хотя велся между ними без всякой злобы, шел в полную силу; и если в результате кто-нибудь даже падал убитым, то убийца не считался нарушившим закон. А ведь не было тогда преступления страшнее, чем убийство соплеменника!
Этот этап развития человечества — всеобщий. У нас, у русского народа, до самого недавнего времени дошел от него обычай «улицы на улицу», «стенки на стенку». У других народов бои хотя принимали иную форму, но также сохраняли это свое происхождение: от деления племени на фратрии. Например, латиняне древнего Рима — жители кварталов Священной дороги, с одной стороны, и Субуры — с другой, ежегодно устраивали между собой борьбу за голову коня после осеннего жертвоприношения коня. В Джурджане в X веке (это нынешний Ургенч, Средняя Азия) жители двух половин города, разделенных рекой, дрались всякий раз после ежегодного праздника жертвоприношений за голову верблюда. К слову сказать, этот праздник к тому времени считался в Джурджане уже мусульманским. Но разве не очевидно, что и он, и сопутствовавший ему обычай существовали задолго до мусульманства — этой последней по времени своего возникновения крупной мировой религии?
Религии вообще возникали ведь не на пустом месте. Хотя и в неимоверно искаженном виде, но в основе любого религиозного мифа лежало представление непременно о реальном — об окружающем конкретном мире. Человек каждодневно подчинял его себе и вместе с тем сам являлся продуктом его, — так же, как любое животное или растение, которых он добывал себе в пищу. Поначалу он считал их вследствие этого равными себе, а себя — таким же, как они. Он не видел ничего необыкновенного в том, что, допустим, медведь стал родоначальником какого-нибудь одного человеческого рода, волк — другого, орел — третьего. Мы и до сих пор сталкиваемся с этим в старинных народных сказках. Там вся природа очеловечена — человек считает себя полностью слитым с нею.