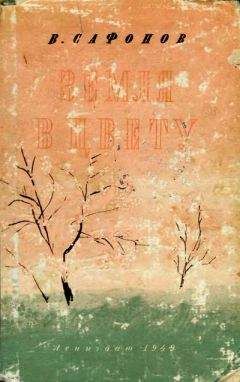Профессор И. И. Презент, как уполномоченный Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, издал приказ. В нем определялось, что мог и что должен был брать с собой каждый. Столько-то килограммов личного груза. Обязательно санки. Для подушек и одеял места не оставалось. Но предписывалось сшить двойной комбинезон с прокладкой из пуха и перьев.
Выпущенные из подушек перья лезли сквозь материю комбинезонов. Якубцинер окрестил эти странные одеяния в перьях: «костюм шантеклер».
Поезд отошел 17 января. Он полз бесконечно долго до озера. Пять-десять километров казались дорогой на луну.
Но вот конец стального пути. Дальше лед.
22 января во мгле зимней Ладоги скрылся «каравай» Грузовиков, уходящих на Большую землю.
В этой партии эвакуированных умерли в переполненных теплушках Г. А. Рубцов, лучший в мире специалист по грушам, ребенок Т. Я. Зарубайло (сам он был в армии) и жена плодовода П. Н. Богушевского; он не надолго пережил ее.
Якубцинера вынесли из эшелона на Званке. Его сочли мертвым. Он пролежал три месяца на Волховской гидростанции, потом еще три месяца в госпитале в Ярославле.
…А когда унеслась по ладожскому льду последняя машина и прощальное «Увидимся!» долетело на берег, доктор биологических наук Презент поплелся обратно к теплушке. Полулежа в ней, он видел сквозь дремоту блеск инея в темных сотрясавшихся углах, снежную пелену снаружи; поезд тянулся в Ленинград. Ведь следом должна была быть отправлена вторая группа сотрудников со второй частью коллекций.
Это отправление ожидалось со дня на день. Но уполномоченный Академии сельскохозяйственных наук уже не мог выйти из своей квартиры на улице Желябова. Иногда бредовые видения заменяли для него действительность. Г. Н. Рейтер, секретарь парторганизации и начальник МПВО института, вбежал к нему.
— Есть эшелон!
— Сейчас… я сейчас, — ответил Презент.
Шесть часов он добирался до Смольного. Он не может вспомнить, как он все же прошел эти несколько километров. Когда он стал ясно понимать окружающее, он увидел себя в кабинете секретаря горкома партии. Рядом был врач. В рот вливали что-то горячее.
— Дадим вагоны. Обязательно, — сказал секретарь.
Вторая партия отправилась 2 февраля. С ней уехал Эйхфельд. Всего — с тем, что увезли на самолетах, — эвакуировали 8 тонн из коллекций. Это было только ядро. Только самое невозобновимое в ней. Прочее осталось, его надо было охранять.
Остались Н. Р. Иванов — крупнейший наш «бобовик», Рейтер, кандидат наук В. С. Лехнович, старший научный сотрудник О. А. Воскресенская, замечательный знаток яблок Р. Я. Кардон, младшие научные сотрудники П. Н. Петрова и Е. С. Кильп, лаборант Н. К. Каткова, уполномоченный дирекции К. А. Пантелеева, комендант здания М. С. Беляева, дворник А. П. Андреева и обслуживающие работники М. Бирюкова, Е. Голенищева, А. Лебедева и А. Романова.
Зима, жестокая зима 1941/42 года еще не хотела уступить весне. В здании у Синего моста люди с серыми лицами и вздутыми, кровоточащими пальцами по трое входили в комнаты, где стояли ящики и коробки, как в банковский сейф. Таков был порядок, установленный ими для самих себя. В одиночку никто не мог войти сюда. Суровый Кардон отпирал тяжелыми ключами двери; ледяным дыханием тянуло из тьмы, шатнув на пороге пламя коптилки.
Шарахались табуны крыс. В сумраке крысы казались огромными, черными, тощими. Крысы хитро откупоривали металлические коробки, сбрасывали их на пол. Сами плюхались с полок, почти не боясь людей. А люди собирали рассыпанные зернышки, подымали коробки, обвязывали проволокой, закладывали досками. Крыс становилось все больше. Очевидно, только одним им известными путями сюда сбегались новые — из соседних дворов по улице Герцена, из домов по проспекту Майорова, по улице Гоголя, Красной улице и даже с набережной. Они пробирались в комнаты, где, как они чуяли, лежали тонны зерна. Изо дня в день, из месяца в месяц в полумраке (окна давно были забиты фанерой) длилось единоборство людей с грызунами, полчищами остервенелых голодных крыс блокады.
Люди победили. Победили холод, голод, грызунов. Так же как товарищи этих людей-героев, воины Ленинградского фронта (среди которых были тоже ученые, тоже сотрудники ВИРа, пошедшие добровольцами) отбили все бешеные атаки гитлеровцев на Ленинград.
Настало время, когда мощный удар Советской Армии, руководимой своим великим вождем, разорвал кольцо блокады.
Кончилась война. Армия-победительница была в Берлине.
Снова вернулась в город Ленина, в здание у Синего моста, вся бесценная мировая коллекция. Ее сберегли до зернышка — и ту часть, что увозили, и ту, что оставалась.
Но не должны быть забыты имена тех, кто отдал жизнь, и тех, кто каждый день готов был ее отдать, чтобы уберечь одно из величайших сокровищ человеческой науки, чтобы продолжало оно служить для счастья сотням миллионов людей!
Могучее, как бы отлитое из металла лицо, с крупными чертами, очень русское. Высокий, с залысиной, лоб. Мощная раздвоенная борода. Твердый прямой взгляд.
Это была внешность военачальника, полководца.
Писал он очень ровным, как по линейке, четким, уверенным почерком — не надо быть графологом, чтобы при взгляде на исписанную им страницу сразу сказать: да, так и должен писать этот богатырь, человек сильный и цельный, которому нечего вилять и что-то прятать в себе, чуждый дряблых колебаний и, очевидно, превосходно знавший, что ему делать и куда итти.
Жить бы такому до ста, горы своротить!
Но не так сложилась жизнь Василия Васильевича Докучаева, исполина науки русской и мировой, с именем которого для нас, потомков, давно уже сроднилось слово: великий.
Подобно Ивану Петровичу Павлову, он был сыном священника в захолустном сельце Милюкове, Сычевского уезда, Смоленской губернии. Родился 17 февраля 1846 года и, подросши немного, был отправлен в бурсу. Это была еще почти та самая бурса, о которой поведал Гоголь, пересказывая достопамятные приключения, случившиеся с философом Хомой Брутом, в чьих карманах, «кроме крепких табачных корешков, ничего не было»; и уж во всяком случае бурса Помяловского, где все прозывались не именами, а кличками, играли в «тесную бабу», прописывали «вселенскую смазь», где старшие жестоко тиранили младших и все — новичков, а «профессора» никак не могли вбить в бурсацкие головы богословие и латынь, лак ни щедро прописывал:) для этого «березовую кашу».
На святках бурсаки отправлялись домой. Кому близко — верст полсотни или сотню, — шли «пешей командой». Дальние отыскивали земляков, складывались, рядили возчика, — он вез их за рубль верст двести, а там опять пешком: «поход, стоящий полярного путешествия», заметил в начале девятисотых годов первый биограф Докучаева.
Летом все это было проще. На каникулы, или «вакации», как их называли тогда, шли нивами и перелесками, в лесу слушали птиц и подсвистывали им; мужички в деревнях укладывали спать в овине или на сеновале, давали похлебать горячего, на прощанье хозяйка совала в торбу краюху теплого ржаного хлеба.
А дома ожидали Василия Докучаева друзья — крестьянские ребята: с ними он ходил по ягоды, удил рыбу, ловил птиц, а как поспевала уборка, помогал делать в поле крестьянскую работу.
Кончена бурса; прошло детство. Куда дальше? Отец полагал — дорожка ясная: в духовную академию.
— Станешь не как я: в городе приход получишь. В губернии. А сбудется мечта моя…
Он не договаривал и, не давая ответить сыну, внушительно подымал палец, произнося умиленно, словно любуясь звуком слов:
— «Отец Василий, благочинный…»
Он говорил это так, точно и на себя примерял то, чему не суждено было сбыться. Его ведь тоже звали Василием…
Молодой Василий поехал в академию, в Петербург. А там произошло вовсе не чаемое рачительным родителем, но как раз то, что предсказал бы всякий, кто дал бы себе труд хоть немного ознакомиться с интересами молодого Докучаева, с его ясным, точным умом и характером решительным, не склонным ни к умилению, ни к мистическим туманам, ни к велемудрому плетению словес.
Василий Васильевич Докучаев, поучившись малое время, категорически объявил, что в духовную академию он больше не ходок, и оказался студентом Петербургского университета.
Для бурсака это было не так уж легко. Нужны были блестящие способности, страстная любовь к знаниям, да и доказательство, что есть сами эти знания (и когда только он нашел время их приобрести?!).
Иначе не стать бурсаку студентом, да еще естественником: ведь физико-математический факультет и духовная академия — это противоположные полюсы.
Да и многое было для Докучаева совсем нелегко: душила страшная, беспросветная бедность, проще сказать — нищета. Вспоминая о своих первых университетских годах, он не вдавался в подробности, а выделял одну черту, которая представлялась ему почти юмористической (до конца жизни этот могучий человек сохранил пристрастие к юмору, тоже очень простому и ясному, иногда грубоватому, даже озорному):