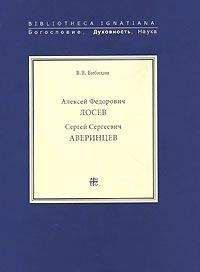Как видит читатель, традиционная тема дана у Романа глубже и человечней, чем у его собратий по жанру: акцент лежит не на блеске небесного церемониала, а на страданиях мятущейся души, которая ищет просветления. Эта проникновенность сочетается с формальным изяществом стиховых созвучий (рифм, рифмоидов, ассонансов). Но не с такими гимнами связана слава Сладкопевца: он вошел в историю мировой литературы прежде всего как автор кондаков. Та раскованность, которой отмечено творчество диакона из Берита, позволила ему достичь в этой области громадной продуктивности: по сообщениям уже цитировавшегося Менология Василия II, он написал около тысячи кондаков (в настоящее время из них сохранилось около 85, причем атрибуция некоторых сомнительна).
Кондак — особый поэтический жанр, уходящий своими корнями в поэзию синагоги и древней церкви [95] , но доведенный до совершенства Романом Сладкопевцем. По своим функциям внутри богослужения он близок к проповеди. Виднейший исследователь византийской гимнографии Э. Веллеш говорит о нем: «Как и его предшественница — раннецерковная и синагогальная проповедь, — он занимает место в последовании литургии после чтения Евангелия. Когда Роман начинает свой кондак о десяти Девах', мы немедленно вспоминаем сцену в На- заретской синагоге, описанную в Евангелии от Луки, гл. 4, ст. 16—22, когда Иисус, прочитав гафтару [96] из 61 главы Книги Исаии, начинает свою проповедь словами: „Сегодня писание сие исполнилось в ушах ваших", мы можем отчетливо проследить развитие от синагогальной проповеди к раннехристианской гомилии Мелитона [97] , от нее — к гомилии в формах поэтической прозы у Василия Селевкийского [98] , и наконец — к стихотворной гомилии Романа». Однако кондак — это не просто проповедь; это прежде всего поэма, подчиненная законам строфического членения и определяемая этими законами в самых интимных аспектах своего интонационного облика. Первая, вводная строфа, именуемая «кукулием», то есть «капюшоном» (как бы «шапкой» поэмы), всегда имела иной размер и предполагала иную мелодию, чем последующие строфы; зато ее заключительные слова становились рефреном гимна в целом. Тон ку- кулия дает эмоциональный зачин, подготавливая к дальнейшей образной конкретизации чувства; порой он стоит в отношениях диалектического противоречия с содержанием последующего текста. Так, кондак Романа «О предательстве Иудином» сурово и беспощадно изобличает предателя; но кукулий — это слезная молитва о милости к грешникам:
Отче наш и Господи, | всезиждущий, вселюбящий, | смилуйся, смилуйся, смилуйся | над нами, о, все подъемлющий | и всех объемлющий!
Другой кондак Сладкопевца — «На усопших» — в целом построен как погребальный плач и жалоба о бренности жизни; кукулий же, напротив, имеет своей темой райское блаженство праведных душ:
Сколь сладостны кущи Твои и возлюбленны, | Господи сил! | В них же обитающие, Спасителю наш, | Во веки веков воспоют Тебя, | Восхваляя, восславляя | Давидовым оным напевом: | «Аллилуия!»|
Этот эмоциональный контраст между кукулием и рефреном, с одной стороны, и основным текстом поэмы — с другой стороны, создает ощущение глубины и перспективы, одновременно давая пластическое выражение коренной антиномичности христианского мировосприятия (в приведенных нами примерах дело идет о двуполярности между милосердием и правосудием бога и между величием и ничтожеством человека).
Дальнейшие строфы кондака — числом от 18 до 30 — имеют совершенно идентичную метрическую структуру и единый рефрен, своим ритмичным возвращением четко членящий целое на равные отрезки. Приведем две идущие подряд строфы из того же кондака «На усопших»:
Не видал я на свете бесскорбного, | Ибо жизни превратно кружение: | Кто вчера величался гордынею, | Того ныне уж зрю я поверженным; | И плетется с сумой богатившийся, | И терзается гладом кичившийся, — | Вы одни, спасены от превратностей, | Воспеваете в вечном служении: | «Аллилуия!»
Неженатый в тоске угрызается, | А женатый в труде надрывается, | А бездетный терзаем печалию, | Многодетный снедаем заботою, | Те во браке печалью снедаемы, | Те в безбрачьи бесчадьем терзаемы, — | Только вы посмеетесь тем горестям, | Ибо ваша радость небренная — | «Аллилуия!»
С необычайной свободой и артистической уверенностью Роман Сладкопевец прибегает в некоторых своих кондаках к рифме. Собственно говоря, это первые в истории византийской поэзии стихи, в которых рифма временами становится почти обязательным фактором художественной структуры, как это имеет место, например, в кондаке «О предательстве Иудином»:
Не содрогнется ли слышащий, | Не ужаснется ли видящий | Иисуса на погибель лобызаема, | Христа на руганье предаваема, | Бога на терзанье увлекаема? | Как земли снесли дерзновение, | Как воды стерпели преступление?
Как море гнев сдержало, | Как небо на землю не пало, | Как мира строенье устояло, | Видя преданного, и проданного, | И погубленного — Господа вышнего? | Смилуйся, смилуйся, смилуйся, | Над нами, о, все подъемлющий | И всех объемлющий!
Столь осознанного употребления рифмы византийская поэзия не знала во все последующие века, вплоть до эпохи IV Крестового похода (XIII век) [99] ; единственное знаменательное исключение — знаменитый Акафист Богородице.
С этой виртуозностью формы Роман соединяет народную цельность эмоции, наивную искренность нравственных оценок. Как это ни неожиданно для поверхностного взгляда, но его поэзия, чисто религиозная по своей тематике, куда больше говорит о реальной жизни простых людей той эпохи, чем не в меру академичная светская лирика времен Юстиниана. В кондаке «На усопших» с большой внутренней закономерностью возникают образы той действительности, которая должна была волновать плебейских слушателей Сладкопевца:
...Над убогим богач надругается, | Пожирает он сирых и немощных; | Земледельца труд — прибыль господская, | Одним — пот, а другим — изобилие, | И бедняк во трудах надрывается, | Чтобы все отнялось и развеялось!..
В творчестве Романа собраны мотивы и образы, которые наиболее адекватно выражали эмоциональный мир средневекового человека. Поэтому мы находим у него прямые прообразы не только многих произведений позднейшей византийской гимнографии, но и двух знаменитейших гимнов западного средневековья — Dies irae, Stabat Mater [100] .
Роман Сладкопевец намного превышал современников масштабами своего художественного дарования, но он не был одинок. От эпохи Юстиниана дошло немало анонимных кондаков, которые безыскусственно и непритязательно, но с большой органичностью выразили византийский стиль жизни и мировосприятия. Следует назвать также кондак «На Лазаря», принадлежащий некоему Кириаку (имя автора, как это имеет место и в кондаках Романа, включено в акростих) [101] . По своей метрике и некоторым стиховым приемам этот кондак весьма похож на кондак Романа «О предательстве Иудином»; вопрос о том, подражал ли один из этих поэтов другому или оба они имели перед собой общий образец, остается открытым [102] . Третье имя, сохранившееся нам от золотого века византийской церковной поэзии — Анастасий, автор кондака «На усопших» (снова успокоительные трехстопные анапесты!); его поэма чрезвычайно близка к сочинению Романа на ту же тему, и только мера цельности, присущая последнему, здесь не достигнута.
Дальнейшее развитие византийского богослужебного обихода вытеснило многострофные кондаки из употребления. В составе богослужения остались только кукулии и начальные икосы наиболее популярных кондаков — убогие остатки монументальных поэм, обильных действием и насыщенных образностью.
Например, кондак Романа Сладкопевца содержит патетические монологи Девы Марии, ее диалоги с волхвами, ее заключительную молитву за всех людей; но в течение веков продолжали петь только кукулий:
Вот, дева сегодня Пресущественного рождает, | Земля же пещеру
Неприступному предлагает; | Ангелы с пастухами хвалы возносят, | волхвы же со звездою свой путь свершают. | Нас ради родилось | Чадо младое — предвечный Бог!
В конце концов, приходится сказать, что потомки отнеслись к поэтическому наследию Романа Сладкопевца не совсем обычно. Они причислили его к лику святых и рассказывали о нем легенды, но они не удержали в живой практике церковного обихода ни одной из его больших поэм. По-видимому, это как-то связано с возрастающим недоверием к наивной динамике повествовательно-драматического типа гимнографии. Конечно, Роман придает «священной истории» черты драмы, как бы разыгрываемой по готовому тексту, явленному от начала времен; и все же это как-никак драма, и она действительно «разыгрывается». Событие приобретает облик мистерии, но оно изображается именно как событие. Оно имеет свое настроение, свой колорит, свою эмоциональную атмосферу, выраженную в речах действующих лиц или в восклицаниях «от автора», оно расцвечивается апокрифическими подробностями. Вкус последующих веков не был этим удовлетворен. Там, где Роман Сладкопевец предварял рассказ размышлением о его смысле, потомки отсекали рассказ и оставляли одно размышление. Время для картинных повествований и драматичных сценок прошло; наступило время для размышлений и славословий. Жанровая форма кондака вытесняется жанровой формой канона. Классиком последней был Андрей Критский (ок. 660—740). Он написал «Великий канон», где в нескончаемой череде проходят образы Ветхого и Нового Завета, сводимые к лапидарным смысловым схемам. Например, Ева — это уже не Ева; это женственно-лукавое начало внутри души каждого человека: