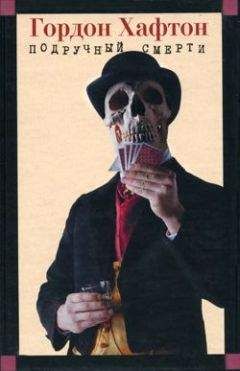женщина – это та, которая подчиняется, но не убеждена, что она находится в безопасности во власти мужчины. Ей не нужно ничего фетишизировать, поскольку ей не нужно совершать поступки. Мужчина-импотент также не убежден, что он в безопасности, но ему недостаточно пассивно лежать, чтобы выполнять свою видовую роль. Он создает фетиш как отрицания силы, чтобы быть способным совершить действие. Этот фетиш женщина отрицает всем своим телом. Используя идеально подходящий термин фон Гебзаттеля, мы могли бы сказать, что фригидность – это женская форма «пассивного аутофетишизма» (см. Босс «Сексуальные извращения»/Boss,
Sexual perversions, pp. 53).
Это также объясняет естественность связи между садизмом и сексуальностью, не располагая их в инстинктивной плоскости. Они представляют собой взаимоподкрепляющее чувство соответствующей силы и повышенной жизнеспособности. Почему, например, мальчик мастурбирует с фантазиями о такой кровавой истории, как «Яма и маятник» (Гринакр «Определенные отношения»/Greenacre, Certain relationships, p. 81)? Мы должны представить, что фантазия дает ему ощущение силы, которую усиливает мастурбация; опыт – это отрицание бессилия и уязвимости. Это гораздо больше, чем простой сексуальный опыт; и намного меньше, чем выражение необоснованных разрушительных побуждений. Большинство людей тайно реагируют на садомазохистские фантазии не потому, что каждый инстинктивно извращен, а потому, что эти фантазии действительно представляют идеальное соответствие нашей энергии, а также наших ограничений как животных организмов. Для нас нет большего удовлетворения, чем полностью доминировать над частью мира или уступить силам природы, полностью отдав себя. Вполне уместно, что эти фантазии обычно имеют место, когда люди испытывают проблемы со трудности из-за символических дел повседневного мира, и можно задаться вопросом, почему – на встрече, посвященной деловой или академической стратегии, – он не может выкинуть из головы образы из «Дневной красавицы» Луиса Бунюэля.
Босс придает еще более творческий характер садомазохизму, по крайней мере, в некоторых его формах. Я не знаю, насколько далеко стоит продолжать обобщения на основании нескольких примеров, которые он приводит. И мне немного не по себе из-за того, что, кажется, он склонен принимать рационализации своих пациентов как действительно идеальные мотивы. Я думаю, что нужно относиться к этому более взвешено.
Это яснее всего отражено в тщательно продуманной и проработанной статье Уэйта о Гитлере («Чувство вины Адольфа Гитлера»/ “Adolf Hitler’s Guilt Feelings,” Journal of Interdisciplinary History, 1971, 1, No. 2: 229–249), в которой он утверждает, что шесть миллионов евреев были принесены в жертву личному чувству недостойности Гитлера и гиперуязвимости его тела перед грязью и разложением. Гитлер так сильно беспокоился об этих вещах, настолько искалечен он был психически, что ему, кажется, пришлось развить в себе уникальное извращение, чтобы справиться с ними, чтобы победить их. «Гитлер получал сексуальное удовлетворение, когда молодая женщина – настолько моложе его, насколько его мать была моложе его отца – сидела над ним на корточках, чтобы помочиться или испражниться ему на голову» (Ibid., p. 234). Это была его «личная религия»: его личное преодоление беспокойства, сверхпереживания. Это была личная поездка, которую он проделал верхом не только на евреях и немецком народе, но и непосредственно на своих любовницах. Очень показательно, что каждая из них покончила жизнь самоубийством или пыталась это сделать, и это больше, чем простое совпадение. Вполне возможно, что они не выдержали бремени его извращения; все это легло на них, им приходилось жить с этим – не самим по себе простым и отвратительным физическим актом, а со всей его сокрушительной абсурдностью и впечатляющей несовместимостью с общественной ролью Гитлера. Человек, который является объектом общественного поклонения, надежда Германии и всего мира, победитель зла и скверны, – это тот самый человек, который через час наедине умоляет вас «быть милой» во всей полноте телесных выделений. Я бы сказал, что это несоответствие между частной и общественной эстетикой, возможно, слишком велико, чтобы вынести его, если только не удастся занять какую-то командную высоту или точку обзора, с которой можно было бы высмеивать или иным образом отвергать его, – скажем, как проститутка, которая считает своего клиента простым извращенцем, низшей формой жизни.
Я не могу закончить эту главу, не обратив внимания на один из самых насыщенных небольших очерков об извращениях, с которым я сталкивался. Обсуждать его здесь, к сожалению, слишком поздно, но в этой работе принимаемые нами точки зрения и взгляды связываются и углубляются самыми яркими и образными способами. Это работа Эйвери Д. Вайсмана «Самоуничтожение и сексуальное извращение» (Avery D. Weisman, “Self-Destruction and Sexual Perversion,” in Essays in Self-Destruction, edited by E. S. Shneidman, (New York: Science House, 1967). Обратите особое внимание на случай пациентки, мать которой сказала: «Если ты будешь заниматься сексом, ты подвергнешь опасности всю свою жизнь». Результатом было то, что пациентка использовала технику полу-удушения, чтобы иметь возможность испытать оргазм. Другими словами, в состоянии почти смерти, она могла получать удовольствие, не подавляя вину; быть жертвой в половом акте стало фетишем, который позволил сексу случиться. У всех пациентов Вайсмана был средневековый образ реальности и смерти: они видели мир как непреодолимое зло; они ставили знак равенства между болезнью, поражением и порочностью, точно так же, как средневековые кающиеся; и точно так же они должны были стать жертвами, чтобы заслужить право жить, и чтобы откупиться от смерти. Вайсман очень удачно называет их «девственными романтиками», которые не могут вынести откровенную физическую реальность и стремятся посредством извращения превратить ее в нечто более идеализированное.
Пару лет назад Филип Рифф отрезвил меня по поводу моего свободного использования идей имманентности во время группового обмена. В характерной честной и драматичной манере он признал, что был – как и все остальные – «частичным человеком», и он призвал аудиторию признать, что мы все такие, спросив, что вообще значит быть «цельным человеком».
Я думаю, что Тиллих в своих поисках смелости бытия не смог избавиться от одной навязчивой мысли. Кажется, ему понравилась идея коллективного бессознательного, потому что она выражает измерение внутренней глубины бытия и может быть доступом к сфере сущности. Мне это кажется неожиданным отступлением от его обычной разумности. Как может основание бытия быть таким доступным, как его представлял Юнг? Мне кажется, что эта концепция разрушила бы всю идею Падения. Как может человек «по щелчку пальцев» попадать в царство сущности, если можно так выразиться; и если он это делает, не теряется ли у Тиллиха
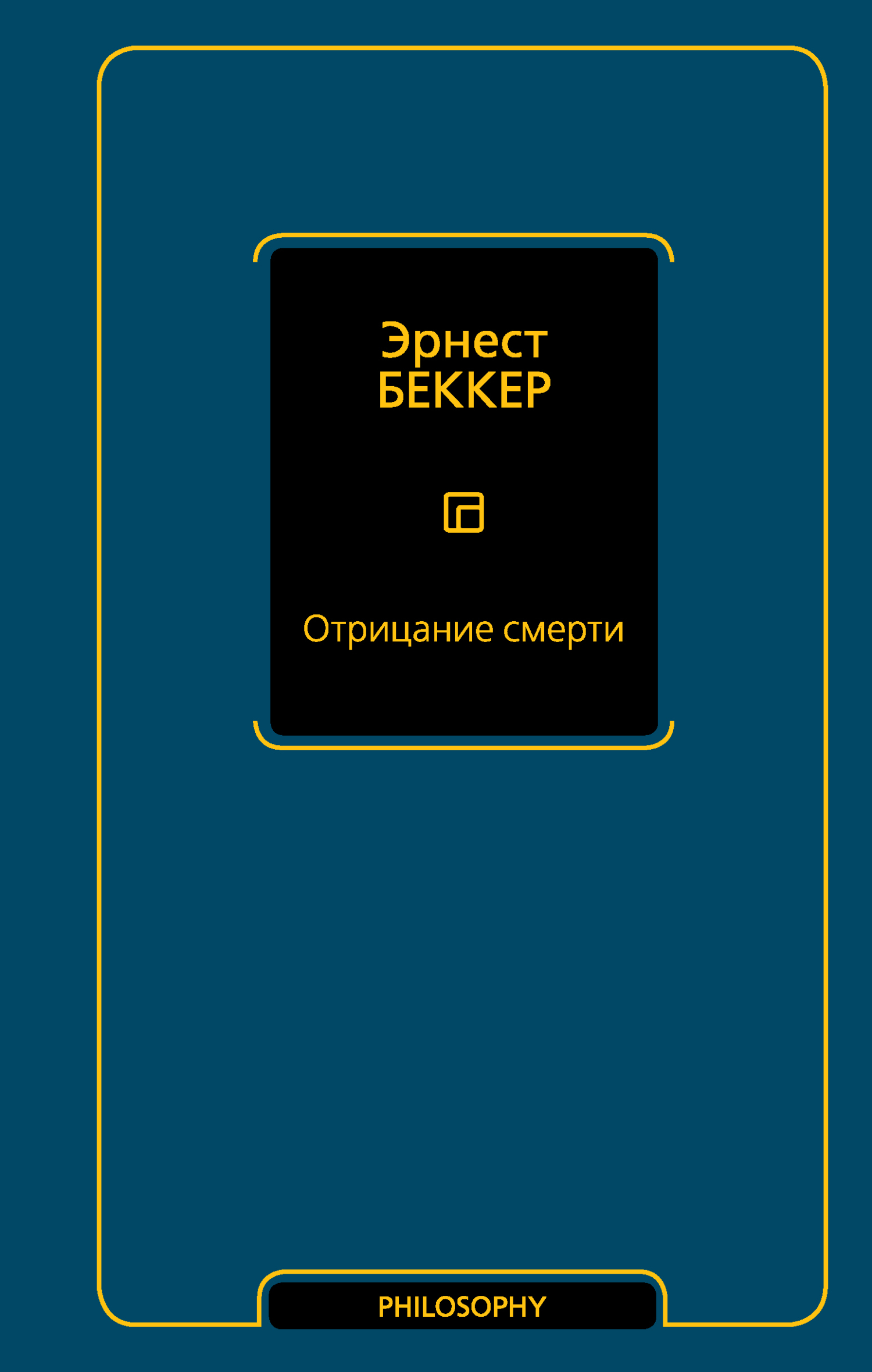

![Дин Кунц - Вызов смерти [= Шоу смерти]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)