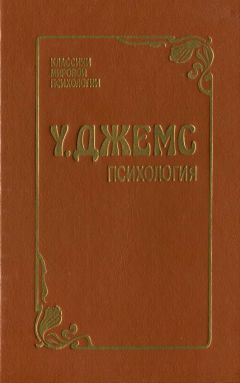Обе эти формулы совершенно неверны. Правильней было бы сказать, что душевный процесс при восприятии и образного и лирического искусства подводится под формулу: от эмоции формы к чему-то следующему за ней. Во всяком случае, начальный и отправной момент, без которого понимание искусства не осуществляется вовсе, есть эмоция формы. Это наглядным образом подтверждается той самой психологической операцией, которую автор проделал над Гойером, а эта операция, в свою очередь, совершенно опровергает утверждение, что искусство есть работа мысли. Эмоция искусства никак не может быть сведена к эмоциям, сопровождающим «всякий акт предицирования и в особенности акт грамматического предицирования. Дан ответ на вопрос, найдено сказуемое, – субъект ощущает род умственного удовлетворения. Найдена идея, создан образ, – и субъект чувствует своеобразную интеллектуальную радость» (79, с. 199).
Этим, как уже было показано выше, совершенно стирается всякая психологическая разница между интеллектуальной радостью от решения математической задачи и от прослушанного концерта. Совершенно прав Горнфельд, когда говорит, что «в этой насквозь познавательной теории обойдены эмоциональные элементы искусства, и в этом – пробел теории Потебни, пробел, который он чувствовал и, верно, заполнил бы, если бы продолжал свою работу» (35, с. 63).
Что сделал бы Потебня, если бы продолжал свою работу, мы не знаем, но к чему пришла его система, последовательно разрабатываемая его учениками, мы знаем: она должна была исключить из формулы Потебни едва ли не большую половину искусства и должна была стать в противоречие с очевиднейшими фактами, когда захотела сохранить влияние этой формулы для другой половины.
Для нас совершенно очевидно, что те интеллектуальные операции, те мыслительные процессы, которые возникают у каждого из нас при помощи и по поводу художественного произведения, не принадлежат к психологии искусства в тесном смысле этого слова. Это есть как бы результат, следствие, вывод, последействие художественного произведения, которое может осуществиться не иначе, как в результате его основного действия. И та теория, которая начинает с этого последействия, поступает, по остроумному выражению Шкловского, так, как всадник, собирающийся вскочить на лошадь, когда перепрыгивает через нее. Эта теория бьет мимо цели и не дает разъяснения психологии искусства как таковой. Что это действительно так, мы можем убедиться из следующих чрезвычайно простых примеров. Так, Валерий Брюсов, принимая эту точку зрения, утверждал, что всякое художественное произведение приводит особенным методом к тем же самым познавательным результатам, к которым приводит и ход научного доказательства. Например, то, что переживаем мы, читая пушкинское стихотворение «Пророк», можно доказать и методами науки. «Пушкин доказывает ту же мысль методами поэзии, то есть, синтезируя представления. Так как вывод ложен, то должны быть ошибки и в доказательствах. И действительно: мы не можем принять образ серафима, не можем примириться с заменой сердца углем и т. д. При всех высоких художественных достоинствах стихотворения Пушкина… оно может быть нами воспринимаемо только при условии, если мы станем на точку зрения поэта. «Пророк» Пушкина уже только исторический факт, подобно, например, учению о неделимости атома» (22, с. 19–20). Здесь интеллектуальная теория доведена до абсурда, и потому ее психологические несуразности особенно очевидны. Выходит так, что если художественное произведение идет вразрез с научной истиной, оно сохраняет для нас такое же значение, как и учение о неделимости атома, то есть оставленная и неверная научная теория. Но в таком случае 0,99 в мировом искусстве оказалось бы выброшенным за борт и принадлежащим только истории.
Если Пушкин одно из великолепных своих стихотворений начинает словами:
Земля недвижна: неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой, —
в то время, как каждый школьник первой ступени знает, что земля не недвижна, а вращается, – выходит, что эти стихи не могут иметь никакого серьезного смысла для культурного человека. Зачем же тогда поэты обращаются к явно неверным и ложным идеям? В полном несогласии с этим, Маркс указывает как на важнейшую проблему искусства на разъяснение того, почему греческий эпос и трагедии Шекспира, возникшие в давно ушедшую в прошлое эпоху, сохраняют до сих пор значение нормы и недосягаемого образца, несмотря на то, что та почва идей и отношений, на которых они выросли, давно уж для нас не существует более. Только на почве греческой мифологии могло возникнуть греческое искусство, однако оно продолжает волновать нас, хотя эта мифология утратила для нас всякое реальное значение, кроме исторического. Лучшим доказательством того, что эта теория оперирует, по существу, с внеэстетическим моментом искусства, является судьба русского символизма, который в своих теоретических предпосылках всецело совпадает с рассматриваемой теорией.
Выводы, к которым пришли сами символисты, прекрасно сконцентрированы Вячеславом Ивановым в его формуле, гласящей: «Символизм лежит вне эстетических категорий» (55, с. 154). Так же точно вне эстетических категорий и вне психологических переживаний искусства как такового лежат исследуемые этой теорией мыслительные процессы. Вместо того чтобы объяснить нам психологию искусства, они сами нуждаются в объяснении, которое может быть дано только на почве научно разработанной психологии искусства.
Но легче всего судить всякую теорию по тем крайним выводам, которые упираются уже в совершенно другую область и позволяют проверить найденные законы на материале фактов совершенно другой категории. Интересно проследить такие выводы, упирающиеся в область истории идеологий, критикуемой нами теории. С первого взгляда она как будто бы как нельзя лучше согласуется с теорией постоянной изменчивости общественной идеологии в зависимости от изменения производственных отношений. Она как будто совершенно ясно показывает, как и почему меняется психологическое впечатление от одного и того же произведения искусства, несмотря на то, что форма этого произведения остается одной и той же. Раз все дело не в том содержании, которое вложил в произведение автор, а в том, которое привносит от себя читатель, то совершенно ясно, что содержание этого художественного произведения является зависимой и переменной величиной, функцией от психики общественного человека и изменяется вместе с последней. «Заслуга художника не в том minimum содержания, какое думалось ему при создании, а в известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание. Скромная загадка: «Одно каже «свитай боже», друге каже «не дай боже», третье каже «менi все одно» (окно, двери и сволок) – может вызвать мысль об отношениях разных слоев народа к расцвету политической, нравственной, научной идеи, и такое толкование будет ложно только в том случае, когда мы выдадим его за объективное значение загадки, а не за наше личное состояние, возбужденное загадкой. В незамысловатом рассказе, как бедняк хотел было набрать воды из Савы, чтобы развести глоток молока, который был у него в чашке, как волна без следа унесла из сосуда его молоко и как он сказал: «Саво, Саво! Себе не забиjели, а мене зацрни» (то есть опечалила). В этом рассказе может кому-нибудь почудиться неумолимое, стихийно-разрушительное действие потока мировых событий, несчастье отдельных лиц, вопль, который вырывается из груди невозвратными и, с личной точки, незаслуженными потерями. Легко ошибиться, навязав народу то или другое понимание, но очевидно, что подобные рассказы живут по целым столетиям не ради своего буквального смысла, а ради того, который в них может быть вложен. Этим объясняется, почему создания темных людей и веков могут сохранять свое художественное значение во времена высокого развития, и вместе почему, несмотря на мнимую вечность искусства, настает пора, когда с увеличением затруднений при понимании, забвением внутренней формы, произведения искусства теряют свою цену» (93, с. 153–154).
Таким образом, как будто бы объяснена историческая изменчивость искусства. «Лев Толстой сравнивал действие художественного произведения с заражением; это сравнение здесь особенно уясняет дело: я заразился тифом от Ивана, но у меня мой тиф, а не тиф Ивана. И у меня мой Гамлет, а не Гамлет Шекспира. А тиф вообще есть абстракция, необходимая для теоретической мысли и ею созданная. Свой Гамлет у каждого поколения, свой Гамлет у каждого читателя» (38, с. 114).
Как будто историческая обусловленность искусства разъясняется этим хорошо, но самое сравнение с формулой Толстого совершенно разоблачает это мнимое объяснение. В самом деле, для Толстого искусство перестает существовать, если нарушается один из самых малых его элементов, если исчезнет одно из его «чуть-чуть». Для Толстого всякое произведение искусства есть полнейшая формальная тавтология. Оно в своей форме всегда равно само себе. «Я сказал, что сказал» – вот единственный ответ художника на вопрос о том, что он хотел сказать своим произведением. И проверить себя он не может иначе, как вновь повторить теми же самыми словами весь свой роман. Для Потебни произведение искусства есть всегда аллегория, иносказание: «Я сказал не то, что сказал, а нечто иное» – вот его формула для произведения искусства. Отсюда совершенно ясно, что эта теория разъясняет не изменение психологии искусства само по себе, а только изменение пользования художественным произведением. Эта теория показывает, что каждое поколение и каждая эпоха пользуется художественным произведением по-своему, но для того, чтобы воспользоваться, нужно, прежде всего, пережить, а как оно переживается каждой из эпох и каждым из поколений, на это теория эта дает далеко не исторический ответ. Так, говоря о психологии лирики, Овсянико-Куликовский отмечает следующую ее особенность, именно то, что она вызывает не работу мысли, а работу чувства. При этом он выставляет следующие положения: