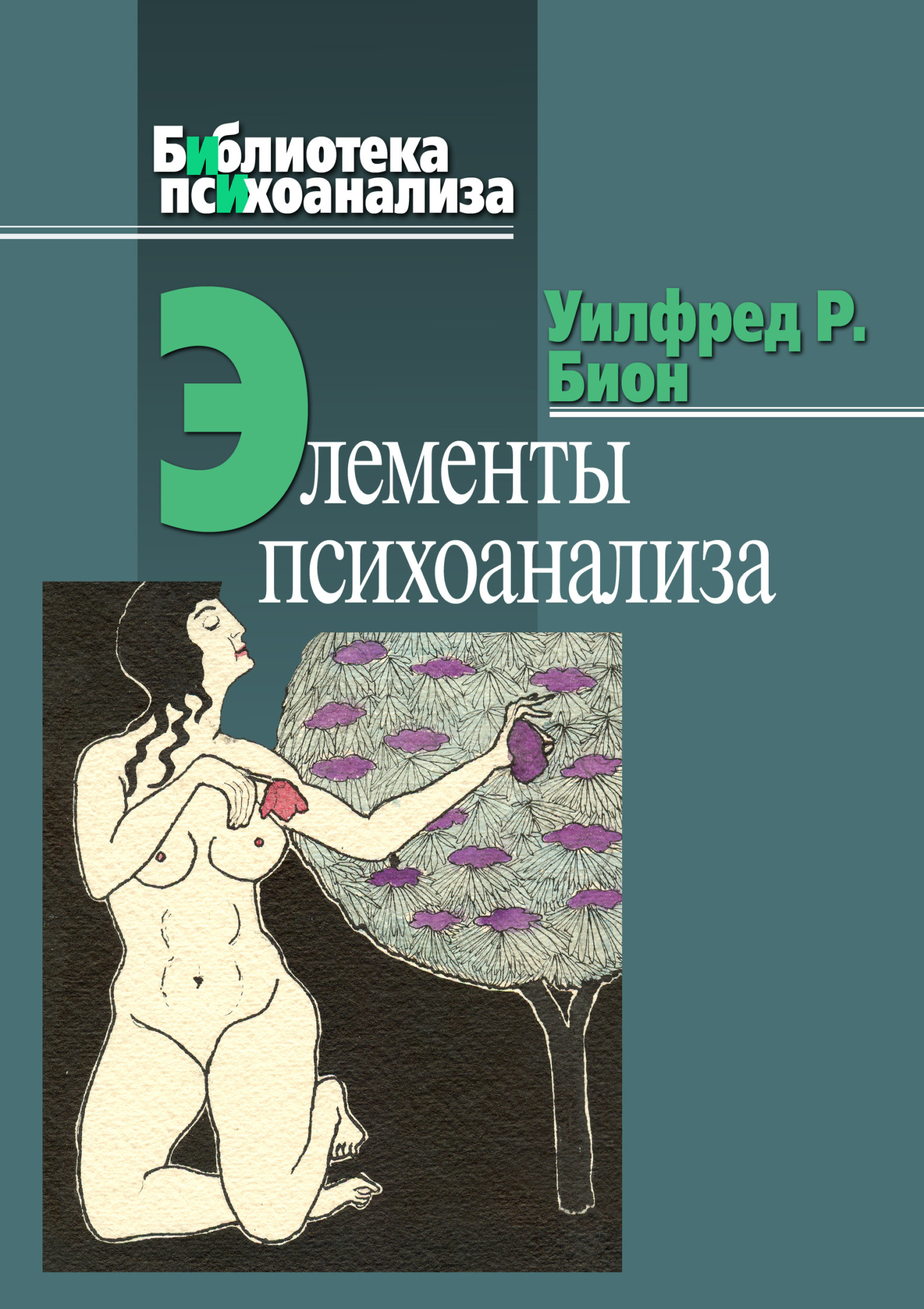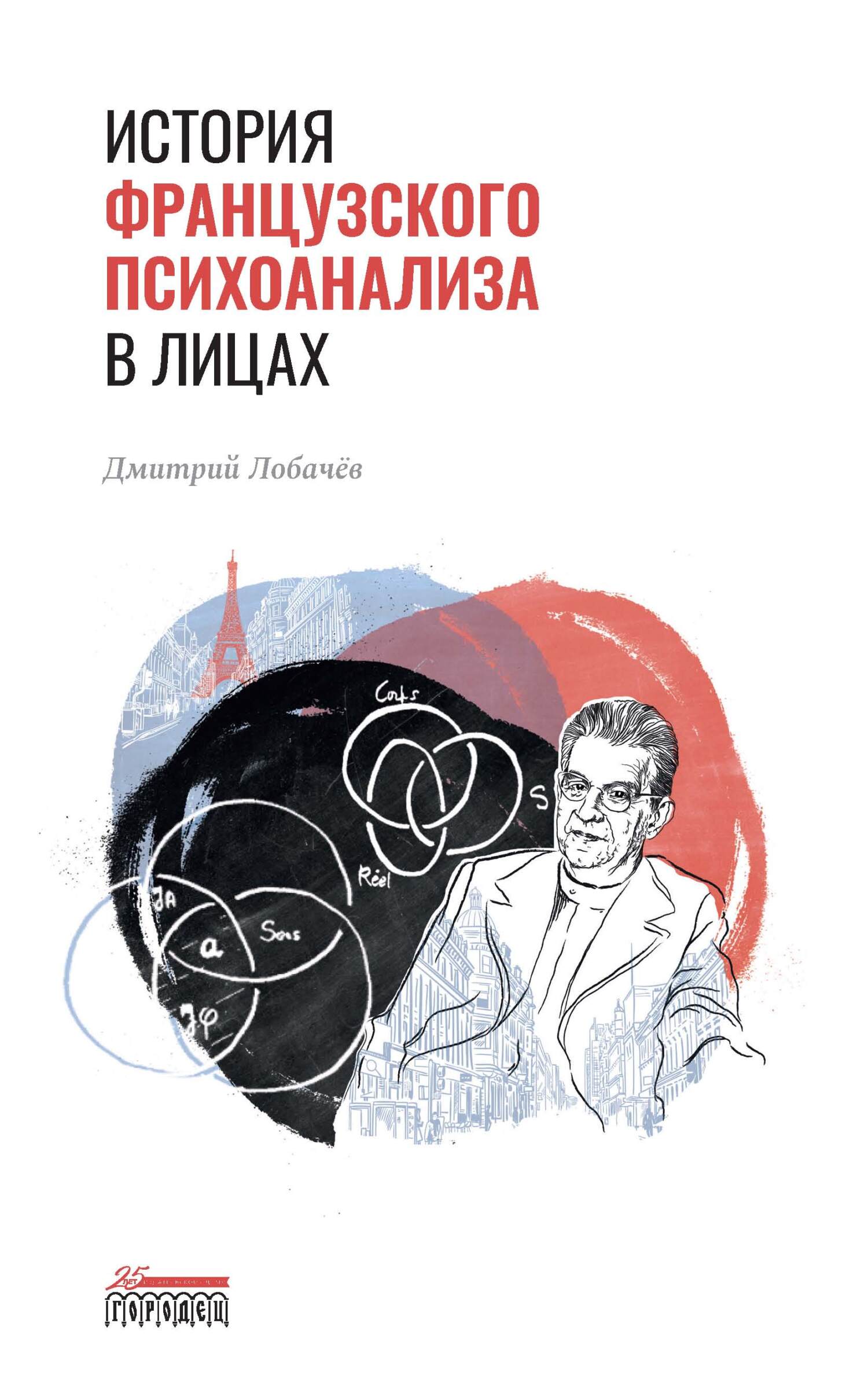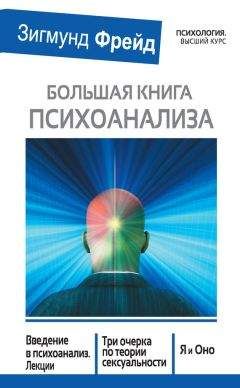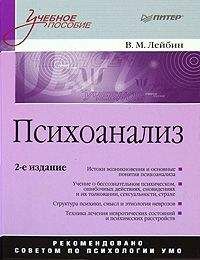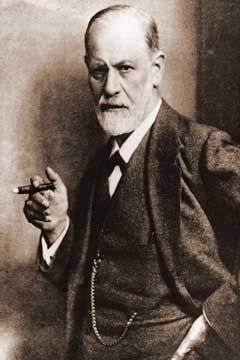в процессе анализа какое-то время, то эти представления порождают интерпретацию, в которой используется та самая терминология, которую пациент научился ожидать от аналитика, – так поддерживается область «согласия». В результате между аналитиком и пациентом возникает то, что в другом месте [58] я назвал контактным барьером. Возможно ли из механизмов, вовлеченных в такого рода поведение, собрать какой-то материал, который прольет свет на минус-явления (
-L, – H и
– K) и в связи с этим – на проблему выделения элементов психоанализа?
Модель обращаемой перспективы в приложении к психоанализу раскрывает сложную ситуацию. Пациент улавливает нотку удовлетворения в голосе аналитика и отвечает унылым тоном. (Что именно было сказано – не важно в рамках рассматриваемой нами темы.) Пациент улавливает оттенок поучения в интерпретации: его ответная реакция важна, так как представляет собой скрытый отпор морализаторству. Именно так один человек упорно видит два лица, а другой – вазу, но в области чувственных впечатлений имеет место полное согласие. Интерпретация принимается, но при этом исходные посылки отвергаются и молчаливо заменяются на другие.
Любая интерпретация подразумевает важное предположение, что аналитик – это аналитик. Это допущение может молчаливо отрицаться пациентом. Хотя может казаться, что он принимает интерпретацию, но силу ее он отрицает, исходя из другого допущения. Последующие ассоциации могут показать, в чем состоит его допущение.
Таким образом, спор между анализантом и аналитиком остается бессловесным [59], – кажется, что слова аналитика принимаются обоими участниками анализа, но… они не важны. Конфликт таким образом остается за рамками обсуждения, поскольку он принадлежит области, которая не рассматривается как проблема, существующая между аналитиком и анализантом. Предположение, что аналитик является аналитиком, а анализант – анализантом справедливо во всех случаях, но только не в сфере разногласий, которая молчаливо пропускается.
Допустим, что в анализе пациент и аналитик пришли к взаимному согласию. Но чем обусловлено это согласие? Тем ли, что утверждение стало более ясным, или пациент просто послушно с ним согласился? Форма согласия может показать, что (с точки зрения пациента) значимыми в интерпретации являются исходные посылки аналитика – его фальшивые посылки. Суть фальши не раскрывается: она скрыта в подтексте – посылки таковы, что побуждают человека видеть два профиля, когда он с равным основанием может видеть вазу.
Несходство точек зрения на то, что является значимым в известных фактах, отличается от описываемых мною явлений; в данном случае это различие очевидно и касается фактов. При «обращаемой перспективе» разногласия между аналитиком и анализантом становятся явными только тогда, когда анализант оказывается захвачен бессознательным: возникает пауза, во время которой он реорганизуется.
Эта пауза может выглядеть неотличимой от той, что делает невротический пациент при усвоении интерпретации, которую он услышал. Я сомневаюсь, что истинную природу этой паузы можно понять благодаря клиническому наблюдению; возможность выявлять их всегда зависит от длительного опыта восприятия пауз пациента и открытия (скорее позже, чем раньше), что через много месяцев явно успешного анализа пациент приобрел более широкое представление о теориях аналитика, но при этом не имел ни одного инсайта. Пауза была использована не для более полного усвоения возможных способов использования интерпретации, а скорее для того, чтобы принять точку зрения (не показывая это аналитику), с которой интерпретация аналитика хотя вербально не изменилась и не была подвергнута сомнению, но получила иной смысл – отличный от того, что хотел передать аналитик. Возможность возникновения инсайта зависит от того, в какой степени пациент готов осмыслить интерпретацию с тем, чтобы изменить свою точку зрения. Такое неверное истолкование отличается от обычного действия сопротивления; пациент будет часто использовать неопределенность слов или интонаций аналитика, чтобы придать его интерпретации такой уклон, которого аналитик не подразумевал. Разницу трудно заметить, потому что пациент, обращающий перспективу, довольно часто использует обычные формы неверного истолкования, чтобы затушевать более важное обстоятельство. Он будет приветствовать интерпретации таких неверных толкований, если в них подчеркивается аспект преднамеренности, – тогда можно надеяться, что затруднение пациента находится под контролем сознания.
Далее следует пример из анализа способного мужчины, общение с которым из сессии в сессию производило впечатление дружелюбного и содержательного сотрудничества, – если его ответные реакции не исследовались слишком дотошно. «Мой секретарь, – сказал он, – очень жалуется на свою жену: он говорит, что она не понимает его. Он говорит, что она постоянно упрекает его; резко критикует и враждебна из-за отсутствия понимания с его стороны, из-за его неспособности любить и тому подобного…» В контексте этого и сходных сообщений, появлявшихся в процессе его анализа, имелась очевидная возможность обсуждать разнообразные трансферентные явления. Исходя из восприятия анализа пациентом, из его несомненных способностей и восприимчивости, можно было предположить, что он обратится к трансферентным отношениям со своим секретарем и сможет понять, о каких чувствах ко мне сообщает этот материал. В некоторых случаях его манера сообщать ассоциации вызывала у меня подозрение, что описываемые эпизоды могли быть им сфабрикованы, чтобы проиллюстрировать теорию переноса, которую он усвоил в ходе анализа.
Я предлагал интерпретации этого и других сообщений – все, как я надеялся, уместные и убедительно подтверждавшиеся контекстом. Он реагировал по-разному: реакции разнились от почти оцепенения и молчания до безразличного согласия, за которым следовал дальнейший материал – дальнейшие «свободные ассоциации». Иногда он мог сказать, что «думал», пока молчал, «о том, что Вы сказали». Иногда он мог не соглашаться с интерпретацией или с каким-то ее аспектом, а затем, стараясь придти к решению, мог изменить свое мнение и признать, что, возможно, хотя и не безусловно, я прав. В других случаях, когда мне казалось, что интерпретация, несомненно, должна быть ему известна, он мог вежливо согласиться с ней, словно с клише, которое вряд ли могло сколько-нибудь всколыхнуть его мысли. Так и было, пока я не допустил, что такого рода заявления он делал потому, что отмечаемые им эпизоды были настолько непостижимы, что реакции его были призваны доказать, что они действительно имели место. Такая явная неспособность к пониманию бросилась бы в глаза в любое время, но в случае человека, имевшего столь длительный опыт анализа, она казалась маловероятной. Ее невозможно было объяснить отсутствием ума, недостаточной восприимчивостью, нехваткой опыта или моей неспособностью анализировать; почти все примеры, которые он приводил, могли служить иллюстрациями психоаналитических теорий.
Это последнее свойство подобных коммуникаций в данном контексте является особенно загадочным: если пациент неискушен в психоанализе, то как объяснить столь явное соответствие отбираемых им свидетельств психоаналитическим принципам? Если же обоснованность выбора признается, то как можно объяснить неудачу в понимании?
Я исключаю предположение о намеренном, сознательном или полусознательном отрицании аналитической