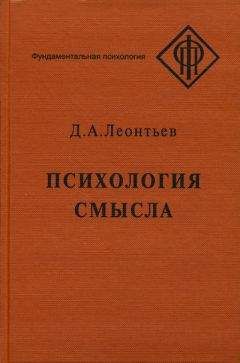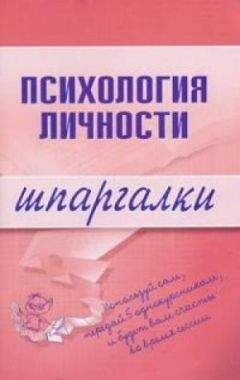В этой работе я стремился показать, во-первых, что не существует отдельного объекта под названием «смысл», который можно было бы точно определить. Есть некоторая смысловая реальность, которая проявляет себя в разных формах, в разных структурах, на разных уровнях психики и регуляции деятельности. Как грибы являются порождениями одной грибницы, которая простирается далеко и связывает между собой много разных грибов, вылезающих на поверхность, так и конкретные смысловые феномены – смыслы, мотивы, установки и так далее, есть только частные случаи проявления единой смысловой «грибницы», роль которой выполняет система смысловых связей, пронизывающая все отношения индивида с миром.
Вторая идея, которая легла в ее основу, заключалась в том, что невозможно понять ничего про смысл и понять, зачем вообще нужно понятие «смысл» в психологии, если ограничиться изучением только психологической реальности – сознания и деятельности. Так же, как нельзя понять природу грибов, не углубляясь в землю, а ограничиваясь только частью, возвышающейся над поверхностью, для понимания того, что такое смысловые явления, пришлось покинуть почву собственно психологии и залезть в чисто философскую область, попытавшись понять, как строятся отношения человека с миром. Не обращаясь к этой сложной реальности отношений человека с миром, мы не поймем природу смысловых явлений, не сможем, скажем, отличить смысл от эмоций. Поэтому в работе был сформулирован принцип бытийного опосредования: любые изменения смысла связаны с реальным изменением отношений человека с миром.
Третья идея заключалась в связывании понятия смысла с понятием регуляции и саморегуляции. Принимая саморегулируемый характер человеческой деятельности как нечто, не нуждающееся в дальнейших доказательствах, мы можем дать ответ на вопрос о смысле смысла: зачем нужен смысл как механизм человеческой жизнедеятельности, какую целесообразную функцию он выполняет. В теории В. Франкла, как и в ряде других теорий (А. Адлера, К.-Г. Юнга, Дж. Ройса), смысл рассматривался как «вершинное» образование, высший ориентир человеческого поведения. В ряде других общепсихологических теорий (А.Н. Леонтьева, Ж. Нюттена, Дж. Келли и др.) смысл выступал, напротив, как сравнительно элементарный универсальный механизм, присутствующий на разных уровнях и в разных звеньях человеческого поведения и познавательной активности. Парадоксальным образом смысл во втором, не столь «возвышенном» понимании оказывается намного более важным объяснительным понятием, чем в первом. Ведь любая система регуляции подразумевает три элемента: объект регуляции (его параметры, подлежащие регулированию), критерий регуляции (которому должен соответствовать объект) и механизмы управления, обеспечивающие возможность коррекции объекта в соответствии с критерием. В первом из двух упомянутых пониманий смысл выступает как критерий регуляции, во втором – как механизм управления. Мы можем поменять критерий – при этом вся система начнет двигаться в новом направлении, но на прежней основе. Если же мы поменяем механизмы управления, вся система изменится. В бунте Адлера против Фрейда наименее существенным моментом была замена либидо на стремление к превосходству и компенсации в качестве ведущей движущей силы; гораздо более принципиальной была замена им причин, находящихся в прошлом, на цели, локализованные в будущем. В теории Франкла стремление к смыслу было введено и убедительно обосновано как регуляционный критерий, в ряде других теорий (в наиболее развернутом виде – в теории А.Н. Леонтьева) оно было введено для описания механизма регуляции, присущего лишь человеческому поведению.
Осмысление собственных действий и объектов мира в интенциональном контексте, в контексте их места, роли и значимости для индивидуальной жизни, придает человеческой жизнедеятельности новое качество. Смысл – это гораздо больше, чем высший интегральный регулятор человеческой жизни, задающий ее направленность; смысл – это регуляторный принцип жизнедеятельности, отсутствующий на более низких ступенях эволюции. Он может иметь разный удельный вес на фоне других регуляторных принципов; меру смысловой регуляции поведения человека в сравнении с другими формами регуляции можно рассматривать как меру человечности. В этой книге рассмотрены параметры индивидуальных различий, характеризующие развитость смысловой регуляции и показано, что все эти параметры обнаруживают значимое снижение, например, у преступников, которых можно вследствие этого рассматривать как группу, характеризующуюся дефицитом человечности при отсутствии психической патологии в традиционном ее понимании.
От жизненного смысла к экзистенциальному
Распространенной ошибкой является отождествление любого разговора о смысле и его изучения с экзистенциальным подходом. Это, конечно же, не так, что видно уже из обзора всевозможных трактовок смысла, приведенного в книге. Пафос этой работы, помимо введения представлений о смысловой регуляции и «грибнице» смысловых связей, заключается в демонстрации механизмов детерминации жизнедеятельности человека его жизненным миром, смысловых по своей природе. Вместе с тем жизнедеятельность человека не полностью обусловлена его жизненным миром; человек способен выходить за рамки этой детерминации. На определенном уровне правомерно говорить о вмешательстве субъекта в его жизненный мир, причем смыслы не столько служат ориентиром в этом, сколько наоборот, трансформируются под влиянием этого вмешательства. Жизненный смысл, определяемый жизненным миром, служит динамической адаптации «изменяющейся личности в изменяющемся мире» ( Асмолов , 1990), но все же адаптации; этот смысл может быть статичным, заданным, завершенным, навязанным. Я воспринимаю его как нечто само собой разумеющееся, данное или заданное мне, не являюсь его подлинным субъектом, не имею возможности экзистенциального самоопределения по отношению к этому смыслу, его принятия или отвержения. Он выступает для меня скорее как необходимость, чем как возможность, скорее как «пленка», на которой записана определенная программа поведения, чем как живой процесс, постоянно изменяющийся и никогда не равный самому себе ( Bugental, 1991), скорее как что-то объективное или объективированное, внешнее по отношению ко мне и ощущаемое мною как что-то независимое от моего отношения, чем как субъективное, мною порождаемое или выбираемое моей субъективной причинностью.
А. Лэнгле вводит в этой связи разведение экзистенциального смысла и онтологического смысла, слитых в теории Франкла ( Lang-1е, 1994; 2004). Развивая определение Франклом смысла как возможности на фоне действительности, Лэнгле определяет экзистенциальный смысл как «наиболее ценную из возможностей ситуации» (1994, S. 17). Исходным пунктом любого экзистенциального анализа выступает сам субъект. Поэтому экзистенциальный смысл выступает по отношению к нему не как требование, а как нечетко различимый след, указывающий личности дорогу (ср. смысл как след деятельности у Е.Ю. Артемьевой, 1999). Он предполагает активность со стороны личности, в том числе активность в отношении к нему ( Langle, 1994, S. 18). Онтологический смысл, напротив, отличается упорядоченностью, определенностью, императивностью, тотальностью; его редуцированным вариантом выступает цель. Различение экзистенциального и онтологического смысла проявляется, в частности, в отношении к неустранимому страданию – признание невозможности понять его конечный онтологический смысл приносит облегчение благодаря освобождению от императива верить, когда возможности веры исчерпаны. Это различение связано и с одной из ключевых идей учения Франкла о смысле: мы не должны задавать вопрос, в чем смысл жизни (в этом случае речь шла бы об онтологическом смысле), наоборот, жизнь задает нам этот вопрос, а мы должны на него отвечать, но не словами, а действиями ( Франкл, 1990, с. 190). Такой «экзистенциальный поворот» выводит нас на экзистенциальный смысл, которого еще пока нет; он «ждет», пока будет найден и реализован ( Frankl, 1981, S. 88).
Постановка вопроса об экзистенциальном смысле возможна только после выхода на уровень самодетерминации, осознания возможностей и ответственности за их принятие или отвержение, за личностный выбор. На этом уровне я не могу принять решение о принятии или отвержении исходя из внешних, объективированных критериев; мой выбор носит осознанно субъективный и потому ответственный характер, сопряжен с принятием риска и неопределенности. Смысл – прежде всего смысл возможностей, смысл альтернатив, – не обладает на этом уровне завершенностью и однозначностью, не получает завершенной формулировки и не несет мне никакого однозначного послания, не дает никаких гарантий. Он становится элементом пространства возможностей, опосредующим мой выбор и вложение мною себя в выбираемые действия.