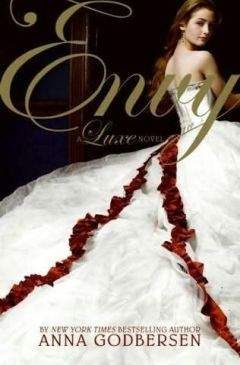Но истоки социал-консерватизма, конечно, следует искать у славянофилов с их пониманием соборности. А. Хомяков с единомышленниками частично вывели это церковное понятие из прежнего контекста и перенесли на общество в целом, подразумевая особый (семейно-общинный) тип связи между его членами. Славянофилы трактовали соборность как общинный идеал, связывая его с идеалом коллективного спасения, характерным для русского православия. По мере развития русской философии, у понятия «соборность» появлялись синонимы. Например, Н. Трубецкой называл принцип соборности «метафизическим социализмом», С. Франк – «философией Мы». А Георгий Флоровский в «увлечении коммуной» видел «подсознательную жажду соборности». Николай Бердяев сравнивал соборность как всеобщее спасение с «жестоким», по его мнению, учением Фомы Аквинского о том, что своим блаженством праведники в раю обязаны муками грешников в преисподней.
Но это уже этапы развития идеи. Главный её смысл состоял в сближении крестьянской общины с общиной церковной через идею «коллективного спасения».
Однако на самом деле проблема была гораздо шире и заключалась в создании нового общественного договора, который объединил бы все части российского общества под началом – необязательно религии, – но православных нравственных ценностей.
Основными идеями при самоопределении крестьянского «мфа» служили в первую очередь справедливое владение землёй и взаимопомощь. Конечно, взгляды носителей этих постулатов, то есть крестьян, могли не вполне соответствовать «правильному» церковному православию. Но путь социального строительства, намеченный К. Аксаковым и А. Хомяковым, как раз и заключался в том, чтобы эти начала постепенно сблизились. Именно здесь находилась точка роста русского гражданского общества. К сожалению, его вызревание столкнулось с политическими трудностями: как с прямым противодействием (обезземеливание крестьян, искусственное разрушение крестьянской общины, всевластие «хлебной олигархии»), так и с революцией, обернувшейся новым закрепощением.
Исторические катаклизмы ударили по крестьянской общине раньше, чем она смогла им противостоять. Так очередное прерывание традиции и переписывание национальной идентичности в XX веке во многом свели на нет усилия строителей русского гражданского общества.
Понятия «соборность», «община», «коллективное спасение» нельзя сужать до границ крестьянского вопроса и узкоцерковной проблематики. Принципы крестьянской общины и церковная соборность оказывали влияние на всю русскую жизнь – это легко проследить по архивным документам и произведениям русских классиков (Н. Лескова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Розанова и др.). Есть немало свидетельств этого влияния. Неслучайно любое социально значимое событие в крестьянской России воспринималось в религиозно-аскетическом смысле. Революционерка Вера Фигнер писала, например, что даже хождение в народ «люди из народа» понимали вполне однозначно: они полагали, что мотивом действий народников является спасение души [20, с. 125]. Многие усматривали религиозный смысл в попытках освободить крестьян. Даже Емельян Пугачёв, призывая крестьян в своё войско, обещал «пожаловать землёй, крестом и бородою», то есть кроме земли вернуть старую, истинную веру. Как бы мы ни относились к личности самозванца, он (а позже народники) апеллировал именно к принципу коллективного спасения.
Сегодня консервативный социализм вновь востребован. Иногда от либеральных публицистов можно услышать, что это направление – своего рода ремейк начала 90-х. То есть тех самых событий 1991–1993 годов, когда бывшие коммунистические аппаратчики пошли на временный союз с патриотами. Это абсолютно неверная аналогия. Коммунисты, либералы и казённые патриоты – это три отряда «партии власти» в широком смысле слова. События 1993 года, когда эти отряды вдруг столкнулись, были просто войной за раздел бывшего советского наследства. Консервативные социалисты (социал-консерваторы) не связаны ни со старыми, ни с новыми группами номенклатуры и бизнеса и никогда не участвовали в разделе советского пирога. Правда, многие коммунисты сегодня тоже называют себя консерваторами – в частности, КПРФ, но лишь потому, что хотели бы реанимировать советский проект. Тем не менее эта концепция имеет мало общего с реальным социализмом, а тем более с подлинным консерватизмом.
В понимании коммунистов реконструкции подлежит исторически локальный проект советского социального государства. Но этот проект изначально строился на костях крестьянского мира и церковной общины. То есть тех самых начал, на стыке которых в начале XX века должен был строиться консервативно-социалистический, солидаристский проект. Большевистский корпоративный коллективизм стал подменой исторической русской соборности. Целью коммунизма на начальном этапе было построение общества, вырванного из контекста истории и традиции. Вместо справедливых форм общежития навязывался государственный раздаточно-распределительный механизм.
Поэтому социал-консерватизм никак не может считаться ремейком коммуно-патриотизма или просто коммунизма. Неудивительно, что его сторонники ведут сегодня жёсткую полемику с наследниками КПСС. Они стремятся разрушить неоправданную монополию этих наследников на понятие «социальное государство». К этому добавляется принципиальная полемика с неоленинизмом во всех его формах.
По мнению социал-консерваторов, воинствующий атеизм навсегда отрезал большевистский проект от русской традиции. К тому же неясно, какой класс взял власть в 1917 году. Революция делалась руками в основном не пролетариев, а крестьян, которых вооружили с началом Первой мировой войны. Большевики использовали крестьянскую массу, посулив землю, чтобы поднять против государства, а затем «подарили» коллективизацию и колхозы с трудоднями. Фактически крестьянство как класс было уничтожено, и в этом, если следовать логике консервативных социалистов, заключалась одна из задач большевизма. С этой точки зрения большевики – вовсе не революционеры. И консервативные социалисты не одиноки в своей оценке.
Как известно, Карл Маркс в переписке с Плехановым и Верой Засулич ясно высказался в том смысле, что революция в крестьянской на 80 % России может быть только крестьянской. Поэтому своими последователями в России он считал народников, а не социал-демократов. Переписку скрыли от посторонних глаз, да и в советское время её существование не афишировалось.
Пролетариат же в дореволюционной России был крайне малочисленным, его большевикам пришлось искусственно «делать», сгоняя человеческий «материал» из деревни. Последствия этой искусственной люмпенизации общества до сих пор определяют общественную атмосферу в стране. А сам процесс очень напоминает «социальный инжиниринг» идеологов глобального общества.
Трагическая метаморфоза 1917 года стала результатом отнюдь не поступательного общественного движения, а череды исторических срывов – моментов прерывания традиции.
Всё это не отменяет нескольких очевидных достижений советского времени. А именно решения проблемы доступности образования, Победы 1945 года, а также успехов в создании фундаментальной науки и социального государства. От этого наследия нет никаких причин отказываться, независимо от идеологических позиций. Такого рода отказ – сегодня он очень резко проявляется в истории с РАН и системой образования – уже стал причиной курса на социальную деградацию.
Страна четверть века проедает созданное до 1991 года и никак не поднимется до уровня промышленного развития 1990-го. Неудивительно, что об СССР сожалеет две трети граждан России. Называть их на этом основании «совками» и считать неполноценной социальной группой недопустимо. Такая практика – одно из проявлений моральной нечистоплотности российского либерального истеблишмента. Необходимо разделять преступления партийной номенклатуры и права бывших советских граждан, трудом которых была создана научно-техническая база СССР. Жизнями простых советских людей была оплачена и победа в войне. Эти люди стали жертвами тех, кому они верили, и имеют право на моральную и материальную компенсацию.
Понятие «перестройка» перестаёт быть феноменом советской истории. Перед необходимостью кардинальных изменений сегодня оказался весь западный мир. Причина – глубокий кризис линейных парадигм развития, связанных с либеральным дискурсом, и исчерпание их интерпретативного и исторического ресурсов.
Этот кризис в значительной мере связан с тем, что идеология либерализма уже не способна легитимировать экспансию глобальной экономики и сопровождающее её ужесточение методов политического контроля. Нарастание процессов дезинтеграции в либеральной модели выражается в разрушении международного права, отказе от христианских и иных моральных норм, демонтаже исторических и биологических идентичностей и т. п. Концепция экономического либерализма как идеологического базиса общества, а вместе с ней и все её «гуманитарные» проекции терпят неудачу. Либеральная демократия находится в глубоком кризисе. Что появится взамен?