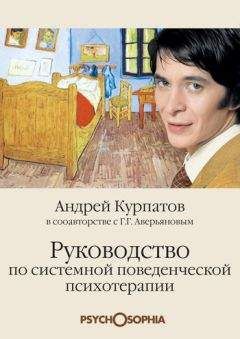«Помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. разреши ту (обиду), яко волиши…Да сохраниши мя и покрыеши».
С этого края просьба прозвучит со всей силой, которая есть в человеческом смирении, со всей убедительностью, которая заключена в истинном человеческом желании, со всей верой и надеждой, которые сокрыты в последнем человеческом уповании.
Каково же влияние адресата молитвы на переживание в акте молитвенного прошения? Прежде всего, по своему характеру это влияние в отличие от других фаз молитвы становится практическим, витальным, онтологическим. До акта прошения молящийся пребывал с Богородицей на неком расстоянии, пытаясь приблизиться к ней, желая обратить ее взор на себя, но как бы сохраняя свою автономию, отдельность и целостность (пусть и поврежденную). Так человек звонит по телефону, вызывая «Скорую помощь»: ему может быть и вовсе плохо, а все же он действует как самодостаточное существо, формулирует свои жалобы, называет фамилию и адрес, но когда врач приезжает, «центр тяжести» отношений смещается с обсуждения жалоб к практическим медицинским мерам. Так и в молитве, когда наступает акт прошения — время «разговора» заканчивается, прошение распахивает навстречу Богородице не одну только душу, но саму жизнь, само существование. Тонущий совершил последнее отчаянное усилие, чтобы крикнуть и схватиться за край подоспевшей лодки — самому подняться в лодку у него уже сил нет. Подобно этому в прошении человек признается в своей принципиальной, глубинной онтологической неполноте и утверждает, что его жизнь, его цельность — лишь в реальном витальном соединении с Богом, в соединении тупиков существования, где он задыхается, с Божьим воздухом, его голода с хлебом, который Бог «произрастил из земли», его изможденности с силой, которую дает Бог. Прошение в молитве — это падение. Но падение в руки Бога Живого.
В самой сердцевине прошения переживание человека, пытающегося всегда отвоевать смысл и надежду, терпит полное поражение: в себе и своей жизни человек не находит ни сил, ни смысла, ни радости, ни утешения, ни надежды, ни мудрости — ничего. Окончательная капитуляция. Но это именно капитуляция, т. е. прежде всего честный акт, признание правды поражения, а не позорное бегство, не фальшивое бодрячество, не пир во время чумы. Даже во время войны, когда на поверхность поднимается злоба, ненависть, бесчеловечность, акт капитуляции принципиально меняет духовный уровень отношений воюющих сторон. Сдаются «на милость победителя». В противнике, который только что воспринимался как средоточие зла, капитуляция вдруг открывает милость. И в самом деле победитель бывает милосерден и жалостлив, будто бы накопив запасы добра за время царствования стихии ненависти и насилия.
В молитве акт прошения взаимодействует с переживанием парадоксально, он интенсивно сгущает как раз то, против чего переживание, казалось бы, боролось — чувство бессилия, невозможности, неспособности на что-то в жизни повлиять, неумения найти разумный выход из ситуации и т. д. Прошение до предела обостряет ситуацию переживания. и вот, именно в тот момент, когда переживание окончательно капитулирует, когда оно признает свою неспособность внутренними человеческими ресурсами спасти смысл жизни и самое жизнь и вкладывает последнюю свою энергию, последнюю безнадежную надежду в прошение — вдруг происходит чудо благодатного возрождения. Возрождение это должно быть названо чудес-ным [44] потому, что в нем человек получает такой ответ на просьбу, который превосходит и саму просьбу, и все мыслимое просителем. До просьбы человек находился в состоянии невозможности и обостренного одиночества: я один, лишен необходимейшего, ничто не может мне помочь. В пришедшем возрождении он получает не просто подкрепление, чтобы еще продержаться своими силами, не просто заплату на прореху в его бытии, а новое бытие, новую жизнь. До прошения — невозможность как концентрированная недостаточность, после прошения — невозможность как немыслимый избыток. По эту сторону просьбы, до акта прошения, — поражение и Твоя ожидаемая помощь, по ту сторону — совсем другое: я оказываюсь принят в союз, где мое бессилие не просто компенсируется, нооборачивается немыслимой мощью, моя скорбь не просто утишается, а загорается сверкающей радостью. Я молил о корке хлеба, а попал на пир, просился в рабы, а принят в объятья царя как сын.
итак, можно сказать, что влияние адресата молитвы на переживание в акте молитвенного прошения носит радикальный характер, но этот радикальный переворот в судьбе переживания объясняется не столько тем, каков образ адресата, сколько тем, каковы отношения с адресатом. До прошения эти отношения были собеседованием, после прошения они становятся со-бытиём.
Акт прошения так меняет саму ситуацию переживания, что она перестает быть ситуацией невозможности. Просьба — пограничный феномен, пробивающий в глухой стене невозможности окно в иной мир, а в нем открываются иные возможности. и потому переживание, будучи по своей сущности душевной борьбой с невозможностью и бессмысленностью, просто упраздняется: переживание умирает в просьбе.
Просьба в корне меняет не только ситуацию переживания, но и субъекта переживания. Капитулировав, т. е. признав в акте прошения свое бессилие и поражение своей автономии, казавшееся ему равнозначным смерти, он неожиданно открывает для себя силу синергийного со-бытия, а в нем из нищеты произрастает богатство, из отчаяния — надежда, из скорби — радость.
Но если меняется ситуация переживания и его субъект, то, естественно, меняется и само переживание. Оно, повторю, умирает в прошении, но умирает, чтобы возродиться в переживании другого типа (назовем его «евхаристическим») — переживании благодарности и «нечаянной радости». Это переживание порождено, как и всякое переживание, невозможностью, но не невозможностью-недостатком, а невозможностью-избытком.
Мы наблюдаем здесь разрыв психологически понятной логики процесса переживания. Этот парадоксальный сдвиг напоминает поведение функции y= 1/x, которая при переходе «х» от отрицательных значений через ноль к положительным «ныряет» в минус-бесконечность, чтобы затем объявиться совсем не там, где ее «ждут», а «спуститься» из плюс-бесконечности. Математические метафоры в данном случае только еще одно подспорье для попытки осмыслить странности динамики душевных состояний, возникающих в молитвенном опыте многих людей. Находясь в тяжелейших жизненных обстоятельствах и тяжело их переживая, они получали в молитве такое утешение, благодатное умиротворение и радость, которые они описывают как явно не вытекающие ни из объективного развития событий, ни из субъективно-психологической логики их переживания, и в то же время не посторонние и не случайные по отношению к этим внешним и внутренним жизненным процессам, а содержащие в себе глубочайший и целостный ответ на них. Молитва «удивляет» переживание.
Сконцентрировав всю свою боль и нужду в молитвенном прошении и молитвенном вопрошании, человек получает порой ответ совсем на другой вопрос, но, странное дело, этот вопрос оказывается куда более существенным, глубоким и насущным, чем тот, который фактически был задан.
разумеется, это чудесное воскрешение переживания в молитве, этот прыжок переживания через пропасть вовсе не гарантированно наступает по совершении молитвенного прошения. Переживание умерло в прошении, но еще не возродилось в обновленном виде, в «нечаянной радости». Чем заполнен этот разрыв?
(5) «Аминь»
Молитвословия завершаются восклицанием «Аминь» («да будет», «истинно», «подтверждаю»), которое о. Павел Флоренский назвал «скрепой» молитвы [45]. Каков психологический смысл «скрепы» и какова ее функция применительно к анализируемой теме влияния молитвы на переживание и, в частности, влияния адресата молитвы на переживание?
После того, как человек высказал другому важную для себя просьбу, ему остается ждать решения. Так и в молитве после акта прошения наступает фаза ожидания. Она открывается венчающим молитвословие возгласом «Аминь». Молит-вословие завершено, но молитва продолжается за пределами молитвословия. В каком-то смысле здесь-то и начинается самое главное (для приговоренного к смертной казни написание прошения о помиловании вовсе не венец дела) — именно поэтому тот душевно-духовный акт, который стоит за кратким словом «аминь», имеет такое большое значение для судьбы молитвы и судьбы переживания. Что это за акт?
«Аминь» — есть внутреннее действие, которое стягивает в один узел всю душевно-духовную работу переживания и молитвы. По своим динамическим характеристикам «аминь» напоминает выдох без вдоха; последним душевным усилием в этот выдох вложено, впрессовано все, что продумывалось и прочувствовывалось в молитве — и подлинное искреннее человеческое желание, и исчерпанность человеческих возможностей, и упование на Бога. «Аминь» соединяет надежду и веру и пропитывает ими ожидание. «Аминь» решительно запечатывает молитву, закрывая доступ в нее для сомнений и колебаний, блуждающих помыслов, страха и неверия. Эта замкнутость, отгороженность от внешних влияний не только не страшна для благодатных энергий (ибо они могут входить и «дверью затворенной»), но, напротив, даже увеличивает способность человека к их восприятию, создавая интенсивную установку на их ожидание. Такое ожидание есть плотнейшая концентрация всех душевных сил, ограждающая человека от «стихий мира сего» (от рассудочных расчетов, мелких надежд, плоских планов и пр.) и открывающая только одно окно, в сокровенную глубину человеческого существа — к Богу.