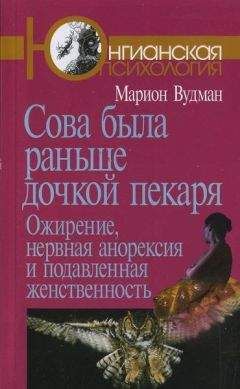Постепенно она достигла устойчивого положения в жизни. Она окончила университет, но жизнь и еда все еще являются для нее проблемой.
Иногда, когда я чувствую тревогу, я ощущаю, что я отрываюсь от земли. Я чувствую, как во мне поднимаются волнение и беспокойство. Я не могу этого выдержать. Я бы хотела положить камень себе в живот, чтобы он удерживал меня внизу, чтобы чувствовать себя укорененной в жизни, чтобы он вернул меня туда, откуда я могла бы начать все снова. Я бы хотела вернуться к себе. Часто я мечтаю найти ориентиры, которые показали бы мне, куда идти, как дальше жить. Я ищу жизнеутверждающие вещи. Когда я ем, я просто продолжаю есть. Я пытаюсь попасть прямо в центр жизни. Я не думаю, что я могла бы продолжать жить без этих периодов условной самодисциплины. Я просто не могу продолжать говорить себе: «Не ешь, не ешь, не ешь это, делай то упражнение, подчиняйся правилам». Когда я больше не могу выдерживать боль, я всегда ем с мыслью лечь спать. Я хочу наполнить себя, стать тяжелой, теплой, плотной и довольной. Мне необходимо дать себе возможность отпустить поводья, и,хотя способ и не благородный, и вовсе не тот, к которому мне хотелось бы прибегать, мне он нужен. Я довожу все до предела. Когда я не могу больше есть и не могу больше спать, я должна встать и двигаться дальше.
Еда — это одновременно и утешение, и саморазрушение. Иногда она помогает мне чувствовать, что жизнь не так ужасна. В других же случаях я переедаю только для того, чтобы воздвигнуть телесную стену между мной и другими существами. Я не хочу быть сексуальным, телесным существом. Я хочу быть нулем, пустым местом и забыть о мире. Быть «как бревно» — это словно пребывать в состоянии сладостной летаргии, противоположном состоянию подушечки для булавок для каждого стимула. Иногда я настолько «исколота», что я не знаю, что мне делать. Мое сердце не разобьется, но я хотела бы, чтобы оно разбилось. Проблема не в том, что сломлен дух. Это сердце… Это проблема сердца, которое не разобьется и будет терпеть боль, даже если она запредельна. Ему бы следовало разбиться. Все в этом мире слишком мучительно. Я чувствую себя настолько зажатой, что я боюсь, что мои ноги подведут меня, если я немедленно не изменю свои переживания — или оторвусь от земли, или провалюсь под землю. Еда дает мне ощущение здесь-и-СЕЙЧАС.
Я учусь другим способам выходить за рамки — молиться и писать. Когда я пишу, у меня не возникает пищевых проблем. Строгая молитва предполагает активное слушание. Это может создать третью (трансцендентную) функцию, которая способна изменить все. Это позволяет найти выход или, по меньше мере, обрести возможность жить вопреки. Искусство и молитва очень тесно связаны. Искусство — это мост в другой мир.
Временами я стою на перекрестке, удивляясь, что я делаю. Я чувствую себя двумя трафаретными рисунками, и я стараюсь соединить их вместе. Одна часть меня может чувствовать жизнь, другая часть увлекает меня прочь от нее. Моя жизнь похожа на конец китайского стихотворения: «И остановка после остановки есть конец дороги».
Я думаю, что я больше не могу идти дальше. Начинается прилив. Нет никакого смысла… нет никакого смысла… нет никакого смысла. На третий раз он накатывает на меня. Я не могу найти свою связь с Богом, и весь мир отступает. Внезапно из жизни утекает весь смысл. Это опасно. Я просто никогда не знаю. После каждой остановки — новое начало. Я живу одним моментом. Я проживаю утро, потом день, потом вечер.
Я привела столь длинную выдержку из беседы с Анной, потому что способ словесного описания ею своего внутреннего мира дает нам яркое понимание мучений анорексичного подростка. Ее мотивы, ее комплексы и конфликты очень похожи на те, что имеются у Маргарет и у любой другой женщины, тело и дух которой серьезно расщеплены. У обеих девушек образ отца идеализирован — у Маргарет потому, что она отвергла своего отца и с проецировала свою маскулинность на ветхозаветного Иегову; у Анны потом у, что она видела своего отца в праздничных ситуациях и с проецировала своего «реального» отца на «императора», критически оценивавшего достоинство, с которым она принимала наказание от его заместителей. Обе были принцессами, от которых их матери много требовали, также боготворя тиранический образ отца-тирана, который любил до той поры, пока ему повиновались, и отвергал, если ему перечили.
В связи с тем что мать также не осознавала свою собственную фемининность, она не могла передать своей дочери инстинктивную любовь к своему собственному телу, и таким образом фемининное Эго оказалось отщеплено от фемининного духа, заточенного в ее собственной плоти. Ужасающее ощущение «пойманности в клетку» и желание вырваться порождены энергией отвергнутой фемининности, барабанящей по своей тюремной решетке, требуя освобождения. В детстве их энергия была естественным образом направлена на обучение, но требование быть выдающейся порождало у них компульсивную тягу к книгам, к ясности, к точности; чрезмерно чувствительная маленькая девочка, которой хотелось плакать и которая нуждалась в том, чтобы ее обняли, была обречена томиться в тюрьме собственного тела. Ее фантазии об отце разрастаются в неутолимую потребность в совершенстве и истине, усиленную ее враждебностью ко всему «невразумительному, инстинктивному, двусмысленному и бессознательному в ее собственной природе» [108]. И хотя она могла чувствовать свою близость с матерью, они обе — и мать, и дочь — были жертвами негативного материнского комплекса, и обеим угрожал ад «хаоса материнской утробы» [109].
Великая Богиня должна быть признана во время первой менструации. В отсутствии матери, способной инстинктивно помочь ей склониться перед Богиней в низком поклоне за это таинство, за связанную с ним возможность деторождения, за свое собственное тело как инструмент, с помощью которого воплощается Жизнь, дочь реагирует ужасом. Этот ужас пропорционален природе и интенсивности ее отцовского комплекса, который будет более полно освещен в IV главе. Здесь же достаточно сказать, что она улетает прочь от фемининности, отрывается от земли в страстной тяге к совершенству, порядку и к тому, что Шелли называл «белое сияние Вечности» [110]. Эта возвышенность компенсируется фемининностью, которая восстает против полета и яростно стремится обратно к реальной земле, природе, жизни, еде. Невообразимые сексуальные фантазии также переносятся на еду, а в случае религиозной девушки комплекс впоследствии заряжается желанием соединения с Богом как способом освободиться от мира, с которым она не может справиться.
Поступки Анны в детстве немного не соответствовали милой, угодливой, внимательной манере поведения большинства аноректичек. Она изначально была в некотором смысле бунтаркой из-за своих творческих способностей. Она была озабочена тем, чтобы «все делать правильно и соответствовать ожиданиям», но ее чувство юмора и ее честность прорывались сквозь это желание, и из-за этого она казалась непослушной. Однако истинное пламя своей мятежности и уникальность своей личности она прятала, потому что иначе «все отвернулись бы от нее». «Я была слишком честной, — рассказывала она. — Я бы слишком усложнила себе жизнь». Когда развилась анорексия, вместе с нею прорвался и созревший бунт.
В «Золотой клетке» Хильде Бруш подчеркивает, что для членов семьи, в которой растут аноретичные девушки, характерна «очень тесная привязанность друг к другу и исключительная общность мыслей и чувств», но ребенок не «признается как индивид со своими собственными правами» [111]. Здесь стоило бы принять во внимание, что чрезвычайно смышленый ребенок с сильно развитой интуицией, воспитанный в условиях очень близких отношений с родителями, может стать крайне чувствительным ко всему, что бессознательно происходит в доме и за его пределами. Она на самом деле может бросить тень почти на каждую ситуацию, в которой оказывается. Если она озвучивает то, что чувствует, она для всех становится угрозой и при этом начинает ощущать себя Кассандрой. Она учится держать свой рот на замке и втайне, с помощью ручки, формулировать свои мысли. Настоящая ее личность проявляется в написанном. Это может вести к спасению или разрушению.
По своей природе она склонна к перфекционизму, очищению и эстетике. Ее идеал — снять все искусственные маски, пока не обнажится суть. Когда она голодает, все пять ее чувств немедленно обостряются, обостряется и ее чувствительность к собственному бессознательному. Как только она почувствует энергию голодания и свою собственную мощь, высвободившуюся в результате этого, она может решить, что «царственно бы умереть сейчас,/ Без боли стать в полночный час ничем» [112].
Для нее это больше не отрицание жизни, но активное желание совершенства смерти. Любой вид искусства — литература, музыка, танец — может превратиться в «лукавого эльфа», манящего ее к себе. С другой стороны, искусство может стать для нее посредником между двумя мирами. Способность выражать свои чувства в конкретной форме, особенно с помощью креативного танца, может помочь ей соприкоснуться со своим собственным внутренним жизненным духом почувствовать, что в этом мире она дома и ей хочется остаться еще на какое-то время.