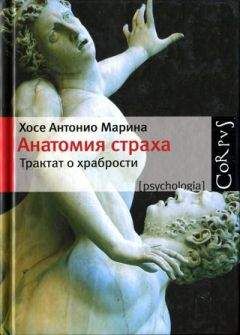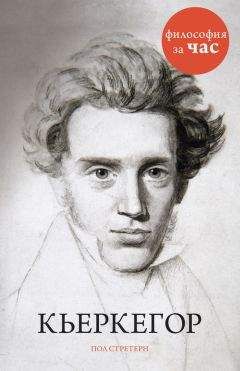Итак, картина следующая. Человек испытывает страх и реагирует на него, подобно животным, убегая, нападая, замирая или подчиняясь. В биологическом смысле страх легко объясним. При виде леопарда олень должен бежать. При моем прикосновении жуку только и остается, что прикинуться мертвым. Это адаптационная реакция, присущая всем живым существам. Однако люди не желают мириться с подобной неизбежностью. Человек хочет быть выше страха. По словам Аристотеля, только безумие или полное бесчувствие способны полностью освободить нас от страха, однако мы все же стремимся действовать „наперекор“ ему. Вот она, наша парадоксальная натура: знаем, что живем по воле эмоций, а подчиняться им отказываемся. Дабы разрешить это противоречие, наш разум, помимо сети консультаций пси-, изобрел еще и моральные установки, которые исходят не просто из чувств как таковых, но из чувств, скорректированных созидательной мыслью, породившей этику. Психология распространяется исключительно на наше здоровье, этика же говорит о благе и доблести.
Таким образом, храбрость лежит в плоскости созидательного разума, стремящегося преодолеть нашу животную натуру, заставить нас прыгнуть выше головы, как говорил Ницше. Нам недостаточно просто выжить, нам надо пере-жить. Нет, не игнорировать пределы своих возможностей, это все химеры, но игнорировать границы действительности. Строить жизнь не по шаблонам реальности, а по велению разума. Ни один человек не может без специальных приспособлений подскочить на два метра, взлететь в небо или взбежать на вершину Эвереста. Сперва ему надо разработать проект, спланировать действия, найти или создать особые устройства. Греческие мудрецы утверждали, что основоположником культуры был Прометей. Он украл огонь у богов и подвергся наказанию за проявленную hybris, гордыню. Нет, мы не знаем меры. Наша природа заставляет нас расширять собственные границы, перекраивать их. Помните страстный пассаж из трактата итальянского гуманиста и философа Пико Делла Мирандолы „Речь о достоинстве человека“? Бог поверяет смертному секрет: „Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь“[51].
Может показаться, что речь идет о глупом чванстве, но это не так: наша ограниченность слишком очевидна. Легкоранимый Рильке писал в „Реквиеме графу Вольфу фон Калкройту“: „Какая там победа! Превозмочь, вот и все“. Uberstehen ist alles. Что за дивное слово! Превозмочь. Перемогаться, быть выше самих себя. Нет, не просто удержать врага, но удержаться. Что мы имеем в виду, когда говорим: „Я держусь“? Это кто кого держит? Ницше, всю жизнь пытавшийся быть выше своей хрупкой натуры, полагавший, что говорит о власти, а на самом деле тосковавший о мужестве, писал: „И вот какую тайну поведала мне сама жизнь. „Смотри, — говорила она, — я всегда должна преодолевать самое себя“. Великий парадокс.
Возможно, безграничная премудрость сделала Хайдеггера менее мудрым, заставив поверить, будто тревога составляет суть человеческой природы. Но я думаю, что великий философ заблуждался. Именно мужество, вечная страсть к преодолению тревоги, и есть наша суть, изрядно осложняющая нам жизнь. Впрочем, последнее также является частью сценария. Все, что сулило трудности, средневековые философы именовали тяготами и, спеша опереться на совершенно справедливые моральные критерии, утверждали: тяготы ценны не тем, что трудны, а как раз наоборот — трудны тем, что ценны. Говоря о поспешности, я имею в виду следующее: когда у альпиниста спрашивают, к чему терпеть такие муки, карабкаясь на неприступную вершину, и он отвечает: „Зато я там побывал“, речь идет вовсе не о значимости самого действия — поднялся, теперь спускайся, что тут такого? — а о радости преодоления, о притягательности многотрудных предприятий. У Фомы Аквинского есть гениальные высказывания, которые примиряют меня с его философией; так вот, он называл несение тягот elevatum supra facilem potestatem animalis, возвышением над примитивной животной природой. Потрясающая мысль! Животное и трус всегда выбирают легкий путь, ведь искушение так велико. Философ Владимир Янкелевич, глубокий знаток человеческих чувств, в одной из своих работ пишет: „Страх, как и ложь, есть тяготение к простому решению“. Я уже говорил о тесной связи между страхом и ложью. Зачем биться, когда проще капитулировать? Зачем говорить правду, когда легче соврать? Верность истине в помыслах и на словах — стезя трудная, качество неудобное, но такое человеческое. Помню случай, описанный Антуаном де Сент-Экзюпери в книге „Земля людей“: он отправляется в больницу навестить летчика Гийоме, своего друга, который потерпел крушение в заснеженных Андах и только через пять дней вышел к людям.
Так вот, Гийоме говорит: „Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу“[52]. Мне также приходит на память высказывание Неистового Коня, вождя племени сиу: „Воин — а воин всегда был образцом мужества — это тот, кто в одиночку может пройти сквозь снежную бурю“. Вероятно, нет нужды напоминать вдумчивому читателю, что если, рассуждая о страхе, мы вместо слова „опасность“ будем использовать слово „трудность“, то понятие храбрости приобретет более широкий, доступный и ясный смысл. Лень ведь тоже можно назвать своего рода трусостью. Тогда мы поймем, почему испанский писатель Бальтасар Грасиан называл Веласкеса „отважным художником“: он брался за картину решительно и без оглядок.
Я неоднократно утверждал, что у человека поиски счастья носят драматический характер, так как он раздираем двумя противоречивыми стремлениями: к благополучию и к преодолению. Нам хочется уюта, но одновременно хочется совершить нечто, достойное гордости и восхищения. Мы жаждем дела, способного придать смысл, пусть даже иллюзорный, нашему существованию. Нелегко примирить непримиримое: возводить дом и одновременно отдыхать в нем, укрыться в порту и одновременно бороздить моря. Иначе говоря, нам хочется бежать от тревоги и одновременно бросить ей вызов. Настойчивый поиск благополучия питает страх, превращает человека в покорное домашнее животное, ведь покорность так удобна, она позволяет забыть все опасения. Храбрость, напротив, освобождает, но — вот незадача — лишает покоя. В сонном котенке пробуждается свободный зверь, чье существование, без сомнения, не слишком удобно: ни тебе домашнего тепла, ни постельки, ни еды по часам, ни ласковых слов. Храбрость гонит нас на неприютные просторы, туда, где воля и раздолье.
2. Но что же такое храбрость?
Все культуры единодушно воспевали отвагу. Безусловно, прав был английский поэт и драматург Оливер Голдсмит, когда говорил, что нет на свете ничего более прекрасного и волнующего, чем „чистый сердцем человек, ведущий бой с напастью“. Гамлет, первый нестареющий герой мировой литературы, преодолевает мучительные опасения и начинает действовать. Актер Гари Купер в фильме „Ровно в полдень“ создал проникновенный образ одинокого храбреца, одолевшего сильнейший страх. „Что хорошо?“ — вопрошал Ницше. И отвечал: „Быть смелым хорошо“, выражая тем самым всеобщее мнение. Однако в вопросах подобной важности нужна точность, и потому греки, прародители нашей культуры, ревнители достоверности, изобретатели науки, постарались и мужеству дать определение. Обращаясь к ним, я не просто делаю экскурс в историю, я выстраиваю генеалогию наших душ, твоей души, читатель, этого плода кропотливого труда, длившегося из поколения в поколение. Человеческие страсти суть порождение природы, хоть и утратили давно природную естественность. Чтобы лучше постичь наши чувства, наше отношение к реальности, которое заставляет нас видеть очевидное во мнимом, следует перевести часы назад, заново проследив все движения души, все сложные и запутанные стези человеческого сердца. Подобно тому как глубокие мозговые структуры хранят страхи наших предков, структуры исторической памяти сохраняют смятение и надежды далекого прошлого. Этот мир достался нам по наследству, и у каждой вещи в нем есть своя сложная генеалогия, свой необозримый путь развития, след, ведущий в глубину времен, запутанная семейная сага. Неписаная история мужества, которой мне предстоит лишь коснуться, — блестящий тому пример.
Сначала моральные ценности считались привилегией людей благородных, а мужество было знаком высокого социального статуса. Отвагой славен рыцарь. Покорность — удел простых сословий. Храбрец возвышается над толпой, он aristós, лучший, он сам налагает на себя обязательства, требует от себя, дерзает. Трус — это чернь. „Тех, кто низок душой, обличает трусость“, — категорично заявлял Вергилий („Энеида“, IV, 10)[53]. „Раб тот, кто боится умирать“, — вторил ему Гегель с высот университетской кафедры. Дабы усилить привлекательность мужества, был создан целый мир художественных образов, где славе храбрецов противопоставлялся жалкий жребий трусов. Рыцарские романы, надолго завладевшие умами европейских читателей, творили свою мифологию отваги. Санчо Панса боязлив, Дон Кихот смел: