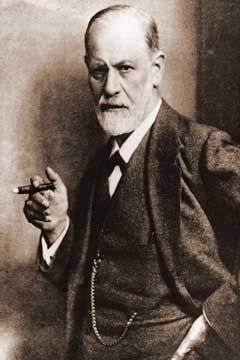или являться помехой, тогда как культура основана на отношениях гораздо большего числа людей. В апогее любовных отношений практически пропадает какой-либо интерес к окружающему миру; пара влюбленных вполне довольствуется собой, ей не нужен даже совместный ребенок, чтобы быть счастливой. Ни в каком другом случае Эрос не раскрывает так явно суть своего естества – стремление из множества создать единство, но когда он этого добился в виде влюбленности двух людей друг в друга, то, как гласит поговорка, за их пределы он выходить не намерен.
Пока что мы можем себе очень хорошо представить, что некое культурное сообщество состоит как бы из таких «спаренных» индивидов, которые, будучи либидозно самоудовлетворенными, связаны друг с другом узами совместного труда и общих интересов. В таком случае культуре не потребовалось бы лишать сексуальность энергии. Но такого желательного состояния не существует и никогда не существовало; реальность демонстрирует нам, что культура не довольствуется предоставленными в ее распоряжение возможностями и намерена связывать членов сообщества еще и либидозно, и для этого она использует любые средства, оказывает поддержку всем способам, создающим сильные идентификации между ними, в широчайшем масштабе мобилизует оттесненное от цели либидо, чтобы усилить узы сообщества дружескими привязанностями. Для осуществления этих намерений неизбежны ограничения половой деятельности. Нам недостает, однако, понимания той необходимости, которая толкает культуру на этот путь и лежит в основании ее враждебности к сексуальности. Речь, должно быть, идет о каком-то нами пока не обнаруженном факторе.
В данном случае на след нас может навести требование так называемого идеала культурного общества. Оно гласит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Заповедь эта известна всему миру, она наверняка старше христианства, выдвинувшего его в качестве своего самого важного завета, но наверняка не очень древнего, ведь даже в исторические времена она была неизвестна людям. Давайте же отнесемся к ней по-простому, как будто слышим ее в первый раз. Тогда нам не удастся подавить удивление и недоумение. Почему мы обязаны следовать ей? Чем она призвана нам помочь? Но – прежде всего – как мы ее осуществим? Да и допустимо ли это для нас? Моя любовь настолько ценна для меня, что я не вправе безрассудно ее разбазаривать. Она возлагает на меня обязанности, которые мне придется быть готовым выполнить, даже идя на жертвы. Если я люблю какого-то другого человека, он обязан каким-то образом это заслужить (я отвлекаюсь от пользы, которую он способен мне принести, как и от его возможной роли в качестве моего полового партнера: оба эти вида отношений не принимаются во внимание предписанием любви к ближнему). Он заслуживает любви, если в главных своих чертах так сходен со мной, что в нем я могу любить самого себя; он заслуживает ее, если настолько совершеннее меня, что в нем я получаю возможность любить идеал собственной личности; я обязан его любить, если он – сын моего друга, так как его горе, если с сыном случится несчастье, стало бы и моим горем, я обязан разделить его с ним. Но если человек мне чужой и не способен привлечь меня никакими собственными достоинствами, никакой уже обретенной ролью в моей эмоциональной жизни, мне трудно его полюбить. Тем самым я окажусь даже неправым, ведь моя любовь ценится всеми моими близкими как привилегия, и по отношению к ним будет несправедливо, если чужака я поставлю наравне с ними. Если же я обязан его любить какой-то вселенской любовью только потому, что он – также некое земное существо, подобное насекомому, дождевому червю, очковой змее, то, боюсь, ему выпадет лишь незначительная толика любви, которую невозможно увеличить, поскольку по различным соображениям я обязан кое-что оставить и для себя самого. Для чего же нужно это торжественно провозглашенное предписание, если его соблюдение нельзя счесть разумным?
Присмотревшись тщательнее, я обнаружу еще больше трудностей. Этот чужак, в общем-то, не просто недостоин любви; он, должен признаться честно, скорее претендует на мою враждебность или даже ненависть. Думается, и он не испытывает ко мне ни малейшей любви, не выказывает ни малейшего уважения. Если это принесет ему выгоду, он без колебаний причинит мне вред, при этом даже не задаваясь вопросом, соответствует ли уровень его выгоды масштабу причиненного мне вреда. Более того, ему не обязательно извлекать из этого пользу, если только ему удастся удовлетворить хоть какое-нибудь свое желание; ему ничего не стоит меня высмеять, оскорбить, оклеветать, продемонстрировать свою власть надо мной, и чем увереннее он себя чувствует, чем беспомощнее я, тем скорее мне приходится ожидать подобного обращения. Если же он ведет себя иначе, если он мне, «чужому», оказывает уважение и проявляет заботу, я все равно и без упомянутого предписания готов буду отплатить ему той же монетой. Более того, если бы эта замечательная заповедь гласила: люби ближнего своего, как твой ближний любит тебя, тогда я бы не стал возражать. Есть и второй завет, который кажется мне еще непостижимее и вызывает у меня сопротивление еще яростнее. Он гласит: люби врагов своих. Но если рассуждать здраво, я не прав, отвергая его за чрезмерность. Их суть одна и та же [21].
И тут мне мнится, будто я слышу преисполненный достоинства голос, наставляющий меня: как раз потому, что ближний не достоин твоей любви, а является скорее твоим врагом, ты и обязан любить его, как себя самого. На этот раз я понимаю: «Credo quia absurdum».
В таком случае, вполне вероятно, ближний на призыв любить меня как самого себя ответит точно так же, как и я, и по тем же основаниям его отвергнет. Настолько же объективно и справедливо, впрочем, он станет думать то же самое? При всем том существуют и различия в поведении людей, которых этика делит, не обращая внимания на обусловленность их поведения, на «добрых» и «злых». Пока эти очевидные различия не устранены, соблюдение высоких этических требований наносит вред целям культуры, принципиально устанавливая прямые поощрения зла. Нельзя здесь не вспомнить о происшествии, имевшем место во французском парламенте во время обсуждения вопроса о смертной казни. Один оратор страстно ратовал за ее отмену, пока его не прервал голос из зала: «Que messieurs les assassins commencent» [Пусть господа убийцы начнут с себя – фр.].
За всем этим стоит нередко отрицаемая часть реального мира: человек отнюдь не мягкое, жаждущее любви существо, даже защищаться склонное лишь в крайнем случае, подвергшись нападению; к своим природным дарованиям он вправе причислить еще и огромную долю склонности к агрессии. По этой причине ближний видится ему не только помощником или сексуальным объектом, но еще и источником соблазна разрядить