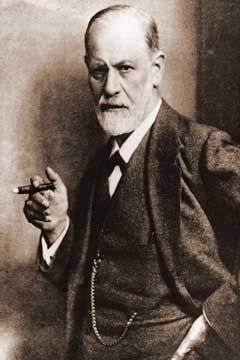Культурный человек обменял возможности обрести счастье на надежность этого обретения. Впрочем, не будем забывать, что в прасемье только ее глава наслаждался подобной свободой влечений, а все остальные жили в положении рабов. Стало быть, во времена древнейшей культуры антагонизм между меньшинством, которое наслаждется ее преимуществами, и большинством, которое их лишено, был доведен до крайности. В результате более тщательного исследования ныне живущих первобытных людей было установлено, что не следует никоим образом завидовать их свободе удовлетворять свои влечения; они подвергаются ограничениям иного рода, пожалуй, даже более строгим, чем ограничения современного культурного человека.
Когда мы справедливо критикуем нынешнюю культуру за неудовлетворительное осуществление наших притязаний на приносящую счастье организацию жизни, за множество доставляемых ею горестей, которых, скорее всего, можно было избежать, когда мы посредством бескомпромиссной критики стремимся выявить корни ее несовершенства, мы, конечно же, совершаем это с полным правом и не становимся из-за этого врагами культуры. У нас есть основания ожидать, что со временем произойдет такое видоизменение нашей культуры, которое полнее удовлетворит наши потребности и исключит такую критику. Вполне возможно, однако, что нам придется свыкнуться с мыслью, что существуют трудности, свойственные сути культуры и неустранимые никакими реформами. Наряду с задачами, к которым мы уже подготовлены, на нас надвигается угроза некоего состояния, которое можно назвать «психологическим убожеством масс». Эта опасность угрожает прежде всего там, где общественные связи устанавливаются главным образом посредством идентификации сограждан друг с другом, тогда как выдающимся индивидуальностям не отводится та роль, которая должна выпадать им в деле воспитания масс [23]. Современное состояние американской культуры предоставляет вроде бы подходящий случай для изучения этого явления, однако я избегаю искушения приняться за критику культуры США, поскольку не желаю производить впечатление, будто хотел бы сам воспользоваться американскими методами.
VI
Ни при какой другой работе я не чувствовал так остро, как сейчас, что излагаю нечто общеизвестное, перевожу бумагу и чернила, а потом еще и труд наборщиков и типографскую краску, чтобы сообщить, по сути, само собой разумеющиеся вещи. Поэтому я охотно соглашаюсь, когда высказывают мнение, что признание специфического, самостоятельного агрессивного влечения означает видоизменение психоаналитического учения о влечениях.
Со временем выясняется, что это не совсем так, что речь идет лишь о давным-давно осуществленном теоретическом повороте, только точнее понятом, в том числе и в отношении вытекающих из него следствий. Из всех медленно развивающихся частей психоаналитической теории как раз труднее всего продвигалось учение о влечениях. И все-таки оно было настолько нужным для психоанализа в целом, что его место было необходимо чем-то заполнить. Началом выхода из состояния полной теоретической беспомощности послужила ставшая исходным импульсом фраза поэта-мыслителя Шиллера, что вместе «голод и любовь» правят миром. Голод можно было считать представителем влечений, способствующим сохранению отдельного существа, любовь же нацелена на объекты, и ее главная функция, всячески поддерживаемая природой, – сохранение вида. Так, с самого начала влечение Я и влечение к объекту оказались противопоставленными друг другу. Для энергии последнего и исключительно для него я ввел термин «либидо». В результате возникло противоречие между влечениями Я и влечениями, направленными на объект, «либидозными» влечениями к любви в самом широком смысле слова. Одно из этих объектных влечений – садистское – отличалось, правда, тем, что его цель отнюдь не отличалась любвеобилием, в некоторых своих частях оно явно примыкало к влечениям Я и не умело скрыть свое близкое родство со стремлением овладеть чем-то без либидозных намерений. Однако об этом противоречии забыли, ведь садизм явно принадлежал к половой деятельности, в ходе которой жестокие забавы могли сменяться проявлениями нежности. Невроз представляет собой результат борьбы между заинтересованностью в самосохранении и запросами либидо, борьбы, в которой победило Я, но только ценой тяжких страданий и лишений.
Любой психоаналитик согласится, что и сегодня эта теория не звучит как давно преодоленное заблуждение. Однако кое-какая переделка стала неизбежной, когда наше исследование передвинулось с вытесненного на вытесняющее, с объектных влечений – на влечение Я. Решающую роль в данном случае сыграло введение представления о нарциссизме, то есть точка зрения, что и само Я заполнено либидо и, более того, является его первым вместилищем и до некоторой степени остается его штаб-квартирой. Переместившись на объекты, это нарциссическое либидо становится объектным либидо, способным вновь превращаться в нарциссическое. Представление о нарциссизме позволило психоаналитически объяснить травматические неврозы, как и близкие к психозам аффективные состояния, и даже психозы. Интерпретацию неврозов перенесения как попытки Я защититься от сексуальности не было необходимости отвергать, однако понятие либидо оказалось под сомнением. Поскольку и у влечений Я была либидозная окраска, некоторое время казалось неизбежным допустить совпадение либидо с энергией влечений вообще, как еще раньше намеревался сделать К. Г. Юнг. Однако оставалось еще кое-что вроде безосновательной уверенности, что не все влечения могут быть одного рода. Следующий шаг я совершил в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), когда мне бросились в глаза навязчивые повторения и консервативный характер деятельности влечений. Исходя из умозрительных рассуждений о начале жизни и из биологических параллелей, я сделал вывод, что, кроме влечения к сохранению живой субстанции и к включению ее во все более обширные единства [24], должно существовать другое, противоположное влечение, стремящееся разрушить единство живого и вернуть его в первоначальное неорганическое состояние. Короче говоря, кроме Эроса, существует и влечение к смерти. Их совместным действием и противодействием друг другу удается объяснить феномен жизни. Нелегко оказалось выявить действие этого предполагаемого влечения. Проявления Эроса бросаются в глаза и довольно заметны, тогда как относительно нового влечения пришлось предположить, что оно молча трудится внутри живого над его разрушением; но это, естественно, еще не доказательство. Более эффективной оказалась идея, что некоторая часть этого влечения направляется против внешнего мира, а затем проявляет себя как влечение к агрессии и деструкции. Таким образом, это влечение как бы принуждается поступить на службу к Эросу, так что живое существо уничтожает что-то другое, как одушевленное, так и неодушевленное, вместо того чтобы уничтожать себя. И наоборот, ограничение этой агрессивности вовне должно усилить и без того идущее постоянно и спонтанно саморазрушение. В то же время на основании этого примера можно было догадаться, что оба вида влечения редко (впрочем, возможно, никогда) встречаются изолированными друг от друга, а сплавляются одно с другим в различных количественных пропорциях, в результате чего наш разум их не распознает. В садизме, давно известном как составное влечение сексуальности, перед нами предстает как бы особо прочный сплав стремления к любви с деструктивным влечением, подобно тому как в его противнике – мазохизме – соединение направленной вовнутрь деструкции с сексуальностью,