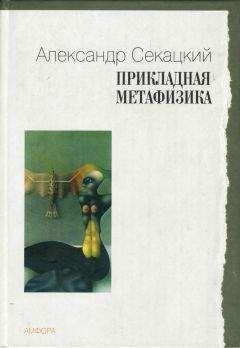Так Темнеющее Око демонстрирует мастерство без стрельбы, то есть совершенство как таковое, приложимое хоть к стрельбе, хоть к разделке мяса, хоть к автогонкам «Формулы-1». Эта способность сродни улыбке Чеширского кота, остающейся даже тогда, когда сам кот исчезает. Исчезает постепенно и незаметно, в соответствии с рекомендацией Алисы. Даос и определяет себя как мастер незаметного исчезновения, сливающегося с бессмертием. Увэй означает здесь уклонение от Zuhanden: не только от подручного материала, от ближайшего «что», но и от ближайшего «зачем». Различие между совершенным мастером и имитатором обнаруживается именно в уклонении. Пока Ле стоит рядом с Темнеющим Оком, и притом на своем привычном месте, нельзя узнать, кто из них пребывает в недеянии. Вероятно, во взгляде стрелка можно заметить даже легкую снисходительность. Но стоит смениться антуражу, стоит разверзнуться пропасти в сотню жэней, и Ле не только не в состоянии повторить своего искусства, но не в состоянии даже встать с колен. Чжуан-цзы резюмирует это в лаконичном поучении:
«Мастер игры со ставкой на черепицу станет волноваться при игре на серебряную застежку и потеряет рассудок при игре на золото. Искусство одно и то же, но стоит появиться соблазну, как внимание тут же отвлечется к внешнему. Внимание же к внешнему всегда притупляет внимание к внутреннему» (243).
Распространение увэй на все обстоятельства жизни может быть описано как релятивизация ставок: каким бы ни оказался внешний расклад, сумма поставленного на карту находится в зоне невосприятия. Над пропастью в сотню жэней или на ровном месте, независимо от того, что поставлено на кон — черепица, застежка, золото или вся Поднебесная, совершенномудрый муж не станет менять игру. Здесь мы впервые сталкиваемся с негативным последствием обладания сознанием: простейшее для младенца или для животного становится труднейшим для человека разумного. Простота, обретаемая в практике увэй, запредельна мудрости. Когда Желтый Предок обращается к отроку из Сянчэна с вопросом «как управлять Поднебесной?», он получает истинно даосский ответ: «Управляться с Поднебесной не легче и не труднее, чем с табуном коней: следует устранять все, что вредит коням, — и только» (288).
Релятивизация ставок представляет собой крайне важный пункт утверждения недеяния: прежде всего это выход за пределы оппозиции господства и подчинения. Деррида, вслед за Гегелем и Батаем, рассматривает величину ставки как дискретную качественную определенность, устанавливающую ранг субъекта: человек есть то, чем он рискует. Подвижная гирька риска своим легким перемещением задает наиболее объективную шкалу самооценки и бытия-в-признанности: «Ведь операция господства, как пишет Гегель, состоит в том, чтобы показать себя не связанным ни с каким определенным наличным бытием, не связанным общей единичностью бытия вообще… Подобная операция [немецкое Tun, букв, «деяние»] сводится, следовательно, к тому, чтобы поставить на кон [mettre en jeu, wagen, daransetzen] свою собственную жизнь, всю целиком. Раб — это тот, кто не ставит свою жизнь на кон, кто хочет законсервировать, сохранить ее, быть сохраненным (servus). Возвышаясь над жизнью, заглядывая в лицо смерти, человек достигает господства, свободы и признания. Господин — это тот, у кого достало сил выдержать страх смерти»[54].
Для различения господина и раба шкала ставок вполне подходит: трудно найти более достоверное свидетельство признанности, чем отметка на этой шкале. Все прочие обстоятельства — унаследованный статус, богатство, мастерство — ситуативны и преходящи; только готовность бросить на чашу весов нечто, оборотной стороной чего является смерть, может рассматриваться как основополагающее деяние (Тип). Люди, неспособные к деянию и делу, играют на черепицу, люди дела ставят на кон серебряную застежку и золото — играют на состояние; человек деяния, господин по определению, готов поставить и жизнь. Но, делая это, он всякий раз (ставка имеет разовый, дискретный, принципиально «объявленный» характер) внутренне трепещет, «выдерживает» страх смерти.
Как видим, деяние, даже самое радикальное, неспособно преодолеть «связанность общей единичностью бытия» (поэтому господин и привязан к рабу, как справедливо отмечает Гегель). Выйти из иерархии ставок под силу лишь недеянию (увэй), поскольку даос находится в положении вне игры («царствует, не управляя»), Пребывающий в недеянии безмятежен по отношению к ставке, как брошенный катящийся кубик. Какая выпадет грань, инь или ян, определяется не величиной ставки. Истина выпавшей грани состоит в том, что могла выпасть и другая, противоположная ей, — это и есть истина недеяния. В книге Ян Чжу мы находим точную рефлексию по этому поводу. Цзы Ся, рассказывая вэйскому царю о своем учителе, говорит:
«Ничто не может его ни поранить, ни остановить. Он может все — и проходить сквозь металл и камень, и ступать по воде и пламени — ибо во всем подобен другим вещам.
— Почему же не делает этого учитель? — спрашивает царь…
— Учитель способен на это, — ответил Цзы Ся, — но способен и не делать этого.
Ответ очень понравился царю Вэньхоу» (28).
Ответ мог бы понравиться и Жаку Деррида — как указание на инфраструктуру, находящуюся за пределами деяния, в том числе и перводеяния, являющегося точкой отсчета для господства и суверенности. В критике исходной операции господства Деррида следует путем Лао-цзы и Ян Чжу: «Чтобы не управлять, т. е. не порабощать себя, она (суверенность) ничего не должна подчинять себе, а также не подчиняться никому и ничему; она должна растрачиваться без остатка, без всякой сдержанности, теряться, терять сознание, терять память о себе, свою внутренность, идти против Erinnerung, против ассимилирующей смысл скупости, она должна практиковать забвение, aktive Vergesslichkeit, о которой говорит Ницше, и, наконец, последний порыв господства, не стремиться больше к тому, чтобы получить признание»[55].
Здесь явственно просматривается образ недеяния, фигура даоса, обладающего статусом «наблюдателя за бытием и небытием» (190). Никакое особенное не застревает в своем движении и не связывает с единичностью бытия (не привязывает к ней), только пустота способна к непрерывному уподоблению и расподоблению: «Настоящие люди древности проходили дорогой милосердия, останавливались на ночлег у справедливости, чтобы странствовать дальше в беспредельной пустоте», — говорит Лао-цзы (217).
Обратимся теперь к тому месту из Ницше, на которое ссылается Деррида, говоря о роли aktive Vergesslichkeit, активного забвения. В «Генеалогии морали», одной из самых продуманных своих работ, Ницше пишет: «Забывчивость не является простой vis inertia, как полагают верхогляды; скорее она есть активная, в строжайшем смысле позитивная сдерживающая способность, которой следует приписать то, что все переживаемое, воспринимаемое, испытываемое нами (позволительно было бы назвать это «душевным сварением») столь же мало доходит до сознания, как и весь тысячекратный процесс, в котором разыгрывается наше телесное питание, так называемое «органическое сварение». Закрывать временами двери и окна сознания, оставаться в стороне от шума и борьбы, которую ведут между собой служебные органы нашего подземного мира; немного тишины, немного tabula rasa сознания, чтобы опять очистить место для нового, — такова польза активной, как было сказано, забывчивости, как бы некой привратницы, охранительницы душевного порядка, покоя, этикета, из чего тотчас же можно взять в толк, что без забывчивости и вовсе не существовало бы никакого счастья, веселости, надежды, гордости, никакого настоящего… [такое] забвение представляет собой силу, форму могучего душевного здоровья»[56].
Искусство забвения, можно сказать, одна из центральных проблем даосского учения, причем проблема особенно глубоко продуманная в связи с необходимостью размежевания с конфуцианством. Поскольку конфуцианское выстраивание «этикета» («ли») базируется на тотальной памяти, в которой записан алгоритм всех возможных собственно человеческих действий (жэнь), «деконструкция» этого нагромождения представляет собой решающий ход для того, чтобы открыть путь недеянию. Неудивительно, что соответствующую «рекомендацию» Чжуан-цзы излагает в форме чеканной заповеди: «Уважать родителей легче, чем их любить, любить родителей легче, чем их забыть, забыть родителей легче, чем заставить родителей забыть о тебе, заставить родителей забыть о тебе легче, чем самому забыть обо всем в Поднебесной, забыть обо всем в Поднебесной легче, чем заставить всех в Поднебесной о тебе забыть». Дело в том, что и всякое преднамеренное, маркированное нарушение этикета есть memoria, пометка в памяти. Защита от такого рода забвения предусмотрена в любой культуре хотя бы как кровавая мнемотехника (такую школу памяти и рассматривает Ницше). Культивирование увэй, внутренней безмятежности, предполагает куда более тонкую технику забвения: «Если человек не забывает о том, что забывается, а забывает о том, что не забывается, — это истинное забвение» (155).