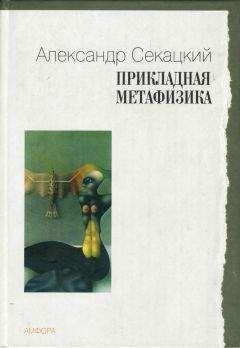Например, истинное забвение — забыть о размере ставки, забыть, что на кону — черепица или жизнь, что «под рукой» — табун лошадей или Поднебесная, что под ногами — твердь или пропасть в сотню жэней. Не наращивание паразитарной памяти, а искусство высокого забвения приближает даоса к самым границам доступных для смертного возможностей. Независимость от иерархии ставок, от единичности бытия, предстающей как сумма обстоятельств, позволяют добиваться неподподания миру, в недеянии размывается грань между присутствием и исчезновением. Свободный выбор, столь ценимый европейской философией, показался бы даосу теоретической несообразностью и практическим минимализмом, челночным движением в узком горизонте между господином и рабом. Н. В. Абаев замечает: «Ситуация разбивается на два момента: 1) до выбора, когда можно выбрать любую реализацию, но существует неопределенность и нельзя действовать, так как нельзя реализовать все возможности сразу; 2) после выбора, когда снимается определенность и можно действовать, но отпадение альтернатив обедняет возможности и носит необратимый характер (так, приняв реализацию a1, нельзя принять а2, поскольку a1 есть отрицание а2)… Сталкиваясь с нерадостной альтернативой — идти к смерти или стоять на месте, даосы попытались найти выход в ином подходе к проблеме, а именно: уйти от необходимости реализовать себя как al, а2… aN, найдя некое А, которое явилось бы инвариантом al…aN, и идентифицировать себя с ним»[57].
Катитесь, сани, домой сами!
«По щучьему велению»
Принцип увэй следует рассматривать как основополагающую философему и одновременно как практическую жизненную установку. Пребывающий в недеянии ничем не порабощен, он равно свободен и от дел правителя, и от рабской службы. Свободен он и от служения долгу, несмотря на особую прочность этого рода цепей. Его восприятие является чистым и пустым, поскольку не содержит предпочтительных объектов, навязывающих себя в первую очередь. По отношению к Zuhanden недеяние выступает прежде всего как невосприятие, пустота апперцепции, что, впрочем, ни в коей мере не означает скудости или ограниченности Lebenswelt.
Напротив, пустота указывает как раз на максимальную емкость мироизмещения, потенциальную вместимость всего спектра сущего и происходящего. Это именно обычное восприятие, уже заполнено объектами предпочтительной апперцепции, погружено в «заботу» и загружено под завязку, вмещает лишь несколько спектральных линий событийности, то есть фактически имеет дело с одним и тем же. Оно уже подцеплено на крючок памяти и подвешено на нем, подвешенность придает восприятию избыток болезненных чувств (страдательных состояний) — и тогда ressentiment, о котором говорил Ницше, может быть истолкован как попытка сверхкомпенсации, тщетное стремление обрести комфорт, трепыхаясь в силках мира. Но привязанность к миру похожа на систему веревочных петель — каждое трепыхание (Tun, tun-tun) только затягивает петлю. Лишь пустота восприятия, свернутая в воздушную петлю Чжуан-цзы, позволяет выскользнуть из связки. Мимо милосердия можно проходить, у добродетели останавливаться на ночлег, но странствовать следует в беспредельном…
И если для почтительного и сведущего мужа, выполняющего конфуцианские заповеди, наступающий день разнообразен тем, что предстоит сделать, то даос, пребывающий в недеянии, сочтет такое разнообразие маниакально однообразным, ибо его день воистину разнообразен предстоящим недеянием, тем, чего предстоит не делать. Пока игрок загипнотизирован блеском застежки, стоящей на кону, даос успевает просчитать и взвесить все ставки — и счесть их слишком легковесными, даже самую высшую. Ведь «обретением желаемого в древности называли не пожалование колесницы с высоким передком и нарядной шапки, а только ту радость, к которой нечего добавить» (225). Разнообразие недеянию придают обойденные ловушки, все срочные дела этого мира, которым предоставлена отсрочка на неопределенное время.
Уход от деяний, вписанных в слишком человеческое, далеко не простая задача. Декларированный отказ как отрицательный поступок может иметь более сильную маркировку, чем привычное следование ходу вещей. Вот Владеющий Своими Чувствами уходит в удаленную пещеру, но к нему является циский царь, чтобы научиться мудрости. Царь буквально достает даоса, и тогда Владеющий Своими Чувствами произносит поучительный монолог: «Я удалился в пещеру, но слава опять то ли последовала за мной, то ли меня уже поджидала, иначе как бы узнал обо мне царь? Я должен был продать свою славу, чтобы он мог ее перепродать, но это не тот товар, от которого легко избавиться. Мне приходится печалиться о тех, кто сам себя губит, и о тех, кто печалится о других, приходится печалиться и о тех, кто печалится о чужих печалях» (292).
Монолог Владеющего Своими Чувствами по многослойности и глубине рефлексивного счета соответствует лучшим образцам европейской диалектики. Практика недеяния поворачивается здесь еще одной своей гранью, ее можно рассматривать как технику избегания выбора. Речь идет том, чтобы, во-первых, аннулировать различия между al, а2, a3…aN и, во-вторых, сгладить дискретность альтернатив, растворить самодостаточность и ограниченность каждой реализации в потоке дао. Таким образом недеяние избегает исчерпанности и сохраняет ростки иного бытия, главное отличие «молодого и слабого» от затвердевшего и близящегося к концу. Основополагающий акт выбора заменяется столь же фундаментальным актом невыбирания, что, в свою очередь, означает не «решительный отказ» от выбора, а вхождение в легкий клинамен, когда альтернативы, как принятые, так и отвергнутые, проходят сквозь пустое восприятие, не взаимодействуя с эмоциями. Даос если и принимает решение, то не так, как принимают окончательный приговор, вердикт судьбы, а так, как принимают гостей, различая среди них званых и незваных, дорогих и назойливых, — но даже и в этом смысле даос негостеприимен. Подобно истинному пастуху бытия он попустительствует происходящему, позволяя быть всему, чему неминуемо быть, но быть мимо, не задерживаясь в восприятии. Приняв решение сегодня, завтра можно проводить его с честью или самому уйти не попрощавшись, благо Дом Бытия для даоса открыт на все четыре стороны. Промедление перед лицом возможного — не то же самое, что оттягивание неизбежного, оно сродни балансированию на каноэ в потоке дао. Полнота возможностей сохраняется, пока тот, кто в лодочке, остается на плаву, пока он не пристал к берегу или не утонул. «Мастерство без лодки» позволяет миновать все подводные камни, наслаждаясь неподпаданием миру.
Есть замечательная русская пословица, близкая к сердцевине даосского учения: дай Бог все уметь, да не все делать. Попустительствовать происходящему, приглашая его пройти мимо. Психологически уклонение от реализации — это нечто противоположное нерешительности, оно не сопровождается никакими «мучениями», поскольку не является страдательным состоянием в принципе.
Балансирующий на каноэ может оставаться в неподвижности, совершая движения (за счет перераспределения внешних сил), а может плыть по течению, будучи неподвижным, отдыхая, как птица в парящем полете, как Темнеющее Око над пропастью в сотню жэней. Но ускользание от выбора, от привязанности к подручному сопровождается сохранением высочайшей энергетики, потенциальной энергии нерастраченных возможностей, которые следует именно «пасти», желательно пополняя при этом стадо. Тут мы напрямую подходим к стратегии долголетия и бессмертия, к главной идее позднего даосизма, основанной все на том же принципе увэй, на избегании самореализаций. Реализованность просчитывается как преддверие смерти; при этом выстраивается следующая цепочка: самореализация, осуществление, овеществление, омертвление, прекращение бытия. И наоборот, остающееся бытие-в-возможности есть главный резерв живущего, то, что еще не прожито, не истрачено в затухающих челночных движениях Zuhanden. Можно говорить о незакабаленности специализацией, о сохранности навыка ученичества: форма мягкого неучастия характеризует и внешний рисунок, и сердцевину увэй. Знающий дао избегает любого акцентирования в соответствии с блистательно продуманной и точно выраженной максимой: подгонять свое отстающее. Вот один из примеров, приводимых в книге Чжуан-цзы: «Шань Бао жил в Лу на высокой горе, пил лишь воду и никогда не интересовался наживой. Дожив до семидесяти лет, он выглядел будто младенец. Но на беду встретился с голодным тигром, который убил его и сожрал. Жил там и Чжан Смелый. Вместо двери в его доме были тонкие занавески — каждый входил к нему и Чжан никого не боялся. Прожив лет до сорока, он умер от лихорадки. Шань поддерживал свое внутреннее, а тигр съел его внешнее, Чжан отстаивал внешнее всем своим мужеством, а болезнь напала на его внутреннее. Оба они не подгоняли свое отстающее» (244).