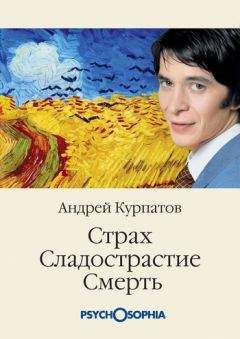Блистательная партитура Иродиады, прописанная Уайльдом, доводится в спектакле Романа Виктюка до высшей точки концентрации другого полюса сладострастия – до полюса уже чисто женского сладострастия, прямо отличного от мужского, до не ограниченной ничем женской похоти. Женская похоть и мужское разрушительное сладострастие создают крайние полюса шкалы извращенной, изуродованной сексуальности современного человека, усиливают и выявляют друг друга в противопоставлении, сделанном Романом Григорьевичем. Механизм поистине удивительный: Роман Виктюк определяет крайние точки структуры и таким образом демонстрирует нам всю полноту этого аспекта существования современного человека. Женщина так же подавлена, как и мужчина, она агрессивна и ревнива, причем к дочери больше, чем к кому бы то ни было, ведь ее дочь – это немое напоминание о наступающей старости и о вечной спутнице старости – об уродстве. Дочь – зеркало матери, и это зеркало беспощадно. Дочь – соперница, которой матери нечего противопоставить, но и убить ее нельзя, мы же знаем, что случается с человеком, убившим свой портрет. Зависть уничтожает завистника. И похоть Иродиады, овеществленная безжалостной по отношению ко лжи режиссурой Романа Виктюка, эта женская похоть – бесчувственная и лишенная природной нежности, рациональная и корыстная в каждой клетке своего существа, эта женская похоть – единственный исход-результат подавления женского существа патриархальной (потому что иерархичной) культурой.
Но мы снова возвращаемся к важнейшему механизму, исправляющему двусмысленность и лживость культуральных мистификаций: Роман Григорьевич возвращает «бесхозное», а потому обессилевшее и лгущее высказывание – говорящему. Саломея по авторству – мужчина, поэтому у Романа Виктюка она становится настоящим проективным тестом, лакмусовой бумажкой, безжалостно выявляющей скудоумие «оценщиков», страдающих от дискурсивной слепоты, от гомофобии, порожденной истеричным желанием отторгнуть от себя ту часть собственного существа, которая не принимается их узколобым, ограниченным сознанием. Впрочем, как вообще оценивающий может допустить существование Другого (и другого в себе!)? Если он другой, могу ли я объяснить, оценить его из себя (из своего опыта, своих знаний, своей системы ценностей, своей сознательной ориентации)? Ни в коем случае! Другого можно только принять, только войти с ним в соприкосновение, только воспринять его инаковость. Но именно этого мы и не умеем делать.
Целостность не нуждается в воссоздании, но всякое слово и действие должно быть возвращено тому, кто его произнес: мужское – мужчине, женское – женщине. Противоречит ли это высказывание «генеральной линии андрогинии»? Ничуть. Кто видит здесь противоречие, пытается выдать идею андрогинии за саму андрогинию. Попытка мужчины симулировать наличие у себя «женской половины» (женских качеств, способностей, психики) – глупая и неудачная мистификация. Попытка женщины отождествиться с выдуманной ею самой мужественностью – величайший из самообманов. Безусловно, и тут мы должны полностью согласиться с Карлом Юнгом: анима и анимус, мужское и женское – неизменные, обязательные составляющие каждого человеческого существа вне зависимости от пола и психического состояния. Однако принять, ассимилировать эти сакральные элементы, вернуть себе утраченную целостность можно, лишь начав с главного, с самого начала, не с периферии, где все перепуталось и исказилось в бесконечных компромиссах с внешним, а изнутри, из центра. Для мужчины этот центр – мужское, для женщины – женское. Именно поэтому идти нужно не вовне, а внутрь, к первоисточнику, вернуть основу надстройке, увидеть надстройку из точки ее основы, с закладного камня. И только этот взгляд, вернувшийся в свое основание, способен разглядеть настоящую «вторую половину», а не вымученную на потребу идеологической пропаганде. Именно поэтому Роман Виктюк возвращает высказывание говорящему (мужской текст – мужчине, а женское поведение – женщине), лицо – обезличенному, после чего целостность гармонизируется сама собой, естественным образом, по ее собственным, а не придуманным для нее механизмам, по своей исконной природной мудрости.
Целостность нельзя воссоздать, целостность можно только правильно прочесть. Мы не утратили целостность, мы ее потеряли, мы потерялись в неправильном прочтении. Текст тела спектакля Романа Григорьевича написан абсолютно верно, без малейшей ошибки, нам остается только прочесть. Надо ли говорить, что это способ вернуть нам собственную, затерявшуюся целостность?…
И мы снова возвращаемся к системе общественного подавления. Социум начинает с того, что подавляет чувства и устремления ребенка, ведь вся пресловутая система воспитания зиждется на «нельзя» и «должен». Это подавление нисколько не ослабевает, и в течение всей последующей жизни человека, только интериоризированное, оно осуществляется теперь большей частью не через внешнее ограничение, а посредством страха нарушить усвоенные в процессе воспитания и взросления запреты. Поскольку запреты и ограничения, накладываемые социумом, как правило, идут вразрез с неосознанными желаниями индивида, человек примеряет множество масок. Возникающие при этом внутренние противоречия и конфликты слишком сильны и болезненны, поэтому с течением времени человек предпочитает отождествиться со своими масками и позами, нежели продолжать безуспешную и неизбежно обреченную на полное поражение борьбу за право быть самим собой, подлинным, истинной индивидуальностью. Так человек сам становится «порождающим носителем» общественной морали. Эта психологическая уловка по отождествлению с масками и ролями, конечно, снижает интенсивность внутреннего напряжения, несколько утоляет душевную боль, вызываемую противоестественным существованием, но не устраняет и не может устранить желаний, подвергнутых жестоким репрессиям. Внутренний конфликт медленно тлеет, а израненная и исковерканная душа может лишь бессильно огрызаться и агрессировать на всё и вся без всяких видимых на то причин, но ни на какие положительные чувства и переживания в таком состоянии она, разумеется, уже не способна.
Хотя описанные процессы и ужасны, но было бы слишком наивно думать, что общество ограничивается лишь банальным запретом, чтобы подавить человеческую индивидуальность и обрести абсолютную власть над личностью. Нет, общественные институты обладают и куда более изощренными средствами пролонгации своей неутолимой жажды власти над человеком, нежели простым, пусть даже и мастерски имплантированным в личность запретом. Социум не только запрещает, он еще и учит, а это самое чудовищное. Способность, а главное, желание любить – это совершенно естественное, истинно человеческое качество. Развившаяся в процессе эволюции и собственно антропогенеза на базе сексуального инстинкта любовь является для человека потребностью. Но общество не развивает эти изумительные человеческие задатки, напротив, оно всеми силами пытается задушить их в самом зародыше. Вместо того чтобы самозабвенно пестовать эти слабенькие росточки естественной потребности человека в любви, оно требует от него навсегда забыть о всяких «потребностях» и предлагает ему прокрустово ложе стандартизированной, формализованной игры в любовь по общим правилам. Эти действительно «странные игры» культуры язык не поворачивается объяснить неведением, настолько они чудовищны. Нас учат правилам любви (от норм этикета, ухаживания и т. п. – до нюансов сексуальной техники и использования возбуждающих средств), любви здесь, конечно, нет никакой, таким «педагогическим» образом можно лишь похоронить ее жалкие останки.
Человеку неведомо счастье большее, чем счастье любви, поэтому желание любить и быть любимым у него огромно. Но ребенку с первых же лет его сознательной жизни отказано в этом счастье, ведь к любимому человеку не обращаются со словами «нельзя» и «должен»; кроме того, эти слова свидетельствуют о полном недоверии по отношению к нему, а недоверие, как известно, не лучший попутчик в любви. И человек, изначально готовый к любви, предназначенный любви, не получает опыталюбви; он получает какой угодно опыт, только не опыт любви и интимности. Если же предрасположенность не проявлена, не закреплена, не развита опытом, она так и остается латентной, замкнутой в самой себе, нежизнеспособной, подавленной в определенном смысле. Человек может быть сколь угодно сильно одарен музыкально, но если за всю свою жизнь его ни разу не подпустят к музыкальному инструменту, он так и останется «полной бездарностью».
Иными словами, социум не позволяет ребенку проявить свои естественные «задатки любви». Но любовь ведь провозглашена у нас чуть ли не первой добродетелью, после, разумеется, благопристойности; поэтому ребенка насильно начинают муштровать в соответствии с этим «партийным заданием». «Возлюби ближнего как самого себя», – внушают желторотому юнцу. Но ведь он и себя-то любить не умеет, он же отказался от себя, предал себя, когда воспринял все налагаемые обществом запреты. Хороша же будет в таком случае его любовь к ближнему! «Любить – значит уважать», – говорят нам. Но что такое «уважение»? Что нужно «уважать» в любимом человеке? То, что он спрятал, когда его подавили запретом, или то, что он из себя с горем пополам сделал под эгидой этого запрета? Видимо, второе, ведь первое представляет собой ноуменальную «вещь в себе», доступ к которой закрыт. «Любить надо за то-то и то-то», – снова звучат ненавистные наставления, в которых слышатся отзвуки мучительных «нельзя» и «должен». И все, блестяще! Цель, поставленная социумом, достигнута: мы уже не хотим любить, нам это «не в жилу», «неинтересно», «не по нам это», «сказки все это».