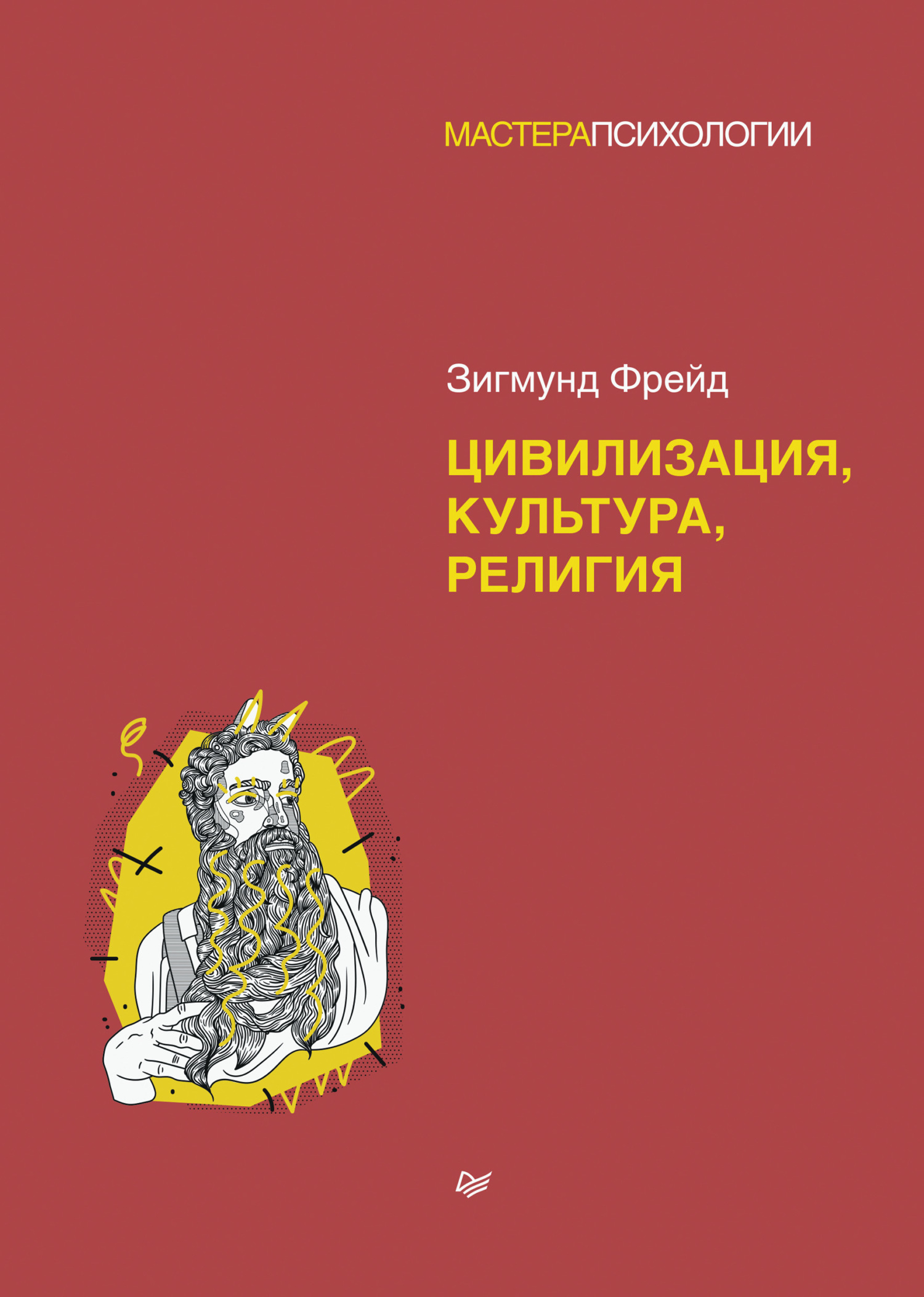фантазию в качестве спасительной вести (Евангелия). Сын Божий в качестве невиновного позволил умертвить себя и тем самым взял на себя вину всех. На сцену должен был выступить именно сын, ведь убийство было совершено над отцом. По-видимому, эта фантазия об избавлении человечества выстраивалась под влиянием старых восточных и греческих мистерий. Существеннейший вклад внес, похоже, сам Павел. Он был религиозно одаренным человеком в подлиннейшем смысле слова; темные следы прошлого таились в его душе, готовые к прорыву в более осознанные сферы.
Что Избавитель безвинно принес себя в жертву, было явно тенденциозным смещением, затруднявшим логическое понимание; в самом деле, каким образом, дав убить самого себя, невиновный в убийстве мог взять на себя вину убийц? В исторической действительности подобное противоречие не имело места. «Избавитель» не мог быть никем иным, как главным виновником, предводителем банды братьев, одолевшей отца. Существовал ли подобный главный бунтарь и предводитель, на мой взгляд, должно остаться под вопросом. Это очень даже возможно, но следует принять во внимание еще и то, что каждый в банде братьев, несомненно, имел желание самому единолично совершить то деяние и так добыть для себя исключительное положение, предложив посильную замену для уходящей в прошлое, социально исчезающей отцовской идентификации. Если такого предводителя не существовало, то Христос – наследник оставшейся неисполненной мечтательной фантазии; если ответ положительный, то он его последователь и его перевоплощение. Но независимо от того, фантазия ли перед нами или возвращение забытой реальности, во всяком случае здесь нужно искать истоки представления о герое, о воителе, который ведь всегда восстает против отца и в том или ином облике его убивает [75]. Здесь же и реальное обоснование «трагической вины» драматического героя, которую на иных путях трудно уловить. Едва ли нужно сомневаться, что герои и хор в греческой драме представляют этого самого героя-бунтаря и банду братьев; и не бессмысленная случайность то, что в Средние века театр вновь начинается с разыгрывания страстей Господних.
Мы уже говорили, что христианский ритуал святого причастия, когда верующий поглощает кровь и плоть Спасителя, повторяет содержание старой тотемной трапезы, – конечно, только в его мягком, выражающем почитание, не в его агрессивном смысле. Амбивалентность, определяющая всё отношение к отцу, явственно дала о себе знать в конечном результате религиозного новаторства. Предназначенное якобы для примирения с Богом-отцом, оно вылилось в его свержение и устранение. Иудаизм был религией Отца, христианство стало религией Сына. Старый Бог-отец уступил место Христу; Христос, Сын, занял его положение – точно так же, как того жаждал в прадревнюю эпоху каждый сын. Павел, продолжатель иудаизма, сделался одновременно его разрушителем. Своим успехом он, конечно, был обязан прежде всего тому обстоятельству, что идеей искупления разбудил сознание вины в человечестве, но наряду с тем еще и своему отказу от богоизбранничества своего народа и от его зримого знака, обрезания, так что новая религия смогла стать универсальной, охватывающей всех людей. Пусть даже в этом шаге Павла сыграло роль его личное чувство мести из-за противления, встреченного его новшеством в иудаистских кругах, всё равно характер старой религии Атона был тем самым восстановлен, снято ограничение, приобретенное ею при переходе к новому носителю, еврейскому народу.
Во многих аспектах новая религия означала культурный регресс по сравнению со старой, иудаистской, что ведь обычно и случается при вторжении или при допущении новых человеческих масс, стоящих на более низком уровне. Христианская религия не удержала той высоты одухо́вления, к которой взметнулся иудаизм. Она уже не была строго монотеистической, переняла от окружающих народов многочисленные символические ритуалы, восстановила великое материнское божество и изыскала место для размещения многих божественных образов политеизма в прозрачной оболочке, хотя и на подчиненных позициях. Главное – она не замкнулась, как то сделала религия Атона и следовавшая за нею Моисеева религия, от проникновения суеверных, магических и мистических элементов, которым на протяжении ближайших двух тысячелетий суждено было явиться тяжелой помехой умственному развитию.
Триумф христианства был новой победой жрецов Амона над богом Эхнатона после полуторатысячелетнего перерыва и на расширившейся исторической арене. И всё же в религиозно-историческом смысле, т. е. в аспекте возвращения вытесненного содержания, христианство было прогрессом, иудейская религия отныне стала в какой-то мере окаменелостью.
Стоила бы трудов попытка понять, как получилось, что монотеистическая идея смогла произвести столь глубокое впечатление именно на еврейский народ и почему он так цепко за нее держался. Мне кажется, ответить на этот вопрос можно. Судьба вплотную поставила еврейский народ перед великим и преступным деянием прадревности, отцеубийством, предоставив повод повторить его на личности Моисея, выдающейся отцовской фигуре. В данном случае имел место «поступок» вместо воспоминания, столь часто происходящего во время аналитической работы с невротиками. На побуждение к воспоминанию, внушенное евреям учением Моисея, они реагировали, однако, отрицанием своего поступка, остались при почитании великого отца и заградили себе тем самым доступ к точке, от которой позднее Павлу предстояло строить продолжение праистории. Едва ли безразлично или случайно то, что насильственное умерщвление другого великого человека стало отправным пунктом также и для религиозного творчества Павла, – человека, которого небольшое число приверженцев в Иудее принимало за сына Божия и за провозвещенного мессию и на которого позднее перешел фрагмент приписанной Моисею истории детства, но о котором мы в действительности едва ли знаем больше достоверного, чем о самом Моисее, – не знаем, был ли он на самом деле великим учителем, изображенным у евангелистов, или, скорее, факт и обстоятельства его смерти стали решающими для значения, приобретенного его личностью. Павел, ставший его апостолом, его самого не знал.
Установленное Зеллином по некоторым деталям предание, поразительным образом без всякого доказательства принятое молодым Гёте, убийство Моисея его еврейским народом [76] становится так необходимой составной частью нашей конструкции, важным связующим звеном между забытым событием прадревности и его позднейшим выходом наружу в форме монотеистических религий [77]. Заманчиво предположить, что раскаяние в убийстве Моисея дало стимул для мечтательных фантазий о мессии, призванном возвратиться, принеся своему народу избавление и обещанное мировое господство. Если Моисей был тем первым мессией, то Христос стал его заместителем и преемником, так что и Павел мог с известной исторической оправданностью кричать народам: смотрите, мессия действительно пришел, на ваших же глазах он был убит. Тогда и в воскресении Христовом есть частица исторической правды, ибо он был возвратившимся праотцом первобытной орды, преображенным и в качестве сына взошедшим на место отца.
Бедный еврейский народ, который с укоренившейся жестоковыйностью продолжал отрицать совершённое отцеубийство, с течением времени тяжко расплатился за это. Снова и снова ему ставили на вид: вы убили нашего Бога. И